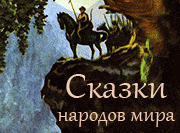
7. Иван Кобыльников сын
Пошло дело от старика и старухи.
Как в одном месте жил старик со старухой и дожил до той тюки, что нет ни хлеба, ни муки. Осталась одна только кобыла. Вот старуха стала говорить старику:
- Убьем кобылу...
- А на чем мы дровец привезем?
- Принесем, бог дас.
На том и положили - убить кобылу.
Межу тем летят тут вороны. А дворишко был худенькой, вот как бы и наш, небом крыт, звездам горожен.
Первой ворон и говорит:
- Крр! Тебя, кобыла, хозяин бить хочет.
Середней ворон говорит:
- Кобыла,- говорит,- если ум есть - убегай!
Задний ворон говорит:
- Не мешкай, тебя идут бить. Выскочи изо двора, беги, куда глаза глядят.
Кобыла не долго думала, выскакивала изо двора, бежит во темны леса.
Бежала, бежала по лесу и нашла на поляну. Поела на этой на полянке и пошла дале.
Видит - лабаз. На этом лабазу тунгус слабажен, помершой. Кобыла этто взяла тунгуса с лабазу и коленко догрызла, право. Погрызла коленко и бережа стала.
Ходила сколь время, сколько ей надо, и родила сына. И дала ему имё - Иван Кобыльников. И дала ему благословленьё:
- Вот что, дитя! Доспей лук и стрелку. Ходи, поляничай, и к ночи ставь стрелку в землю. Я буду знать, что ты живой; а не будет стоять стрелка, я буду ходить искать твои коски.
Распрощался с кобылой.
Доспел лук и стрелу и стал поляничать, свою голову питать. Ходил, ходил, нашел на полянку. Видит - на полянке стоит пень, круг пенька ходит человек.
Надошел на этого на человека и говорит:
- Бог помочь, доброй молодец!
- Спасибо тебе.
- Чего ты ищешь?
- А я,- говорит,- стрелку потерял.
Оглянулся Иван Кобыльников, стрелка тут, подле него стоит в земле.
- Как тебя звать? - спрашиват Иван человека.
- Иван Солнцов сын.
Иван Кобыльников и говорит:
- Пускай меня в товаришши.
- А я,- говорит,- рад товаришшу. Будь ты большей брат, Иван Кобыльников сын, а я меньшой.
Пошли поляничать. Поляничали, поляничали, опеть на полянку нашли. На этой па полянке пень, а круг этого пенькя человек ходит.
И таким же поворотом, как и первой раз, говорит:
- Бог помочь, доброй молодец!
- Спасибо на добром слове.
- Кого ты ищешь, доброй молодец?
- А я,- говорит,- стрелку потерял.
Иван Кобыльников сын посмотрел, посмотрел вкруг...
- Вот,- говорит,- стрелка. Как тебя зовут, доброй молодец?
- Я,- говорит,- Иван Месяцов сын.
- Пойдешь с нам,- говорит,- в товаришши?
- А я рад товаришшам.
Иван Месяцов сын и говорит:
- Ну, Иван Кобыльников сын, будь ты большой брат, Иван Солнцов - брат середней, а я меньшой - Месяцов сын.
Остановились они тут жить. Доспели юрту себе - притулье па этой на полянке.
Потом стали бить всяку птицу и всякого зверя, перо и шерсь в кучу копили. К ноче стрелки становили все, И поутру стрелки их - вышиты (изукрашены).
Иван Кобыльииков сын встал и говорит:
- Что же, братцы, у нас у юрты неблагополучьё есь! Кто-то над нам изгалятся.
И говорит он меньшому брату:
- Ну, Иван Месяцов сын, ты эту ночь становись на каравуль и смотри, хто к юрте ходит.
Пришла ночь. Иван Месяцов сын стал па каравуль, а те в юрту лягли на спокой. Сидел сидел, досидел до полночи и спать захотел. Никого не видал. В полночь в шерсь заполз и крепко заснул, и не видал ничего.
Поутру встает большей брат, видит - стрелки опеть вышиты.
- Что же, брат, Иван Месяцов сын, видал кого-нибудь в эту ночь?
- Не видал никого.
- Не есь ты каравулыцик, Иван Месяцов сын! Нyко, середней брат, Иван Солнцов сын, становись ты в каравуль на эту ночь.
Стрелки опеть поставили голы.
Стал на каравуль Иван Солнцов сын. Сидел, сидел - никого не видал. Залез в перо, его пригрело, Иван Солнцов сын и заснул крепко и никого не видал.
Поутру встают братья. Иван Кобыльников сын смотрит стрелки. А стрелки ешшо того лучше вышиты всяким цветам.
- Что, брат, Иван Солнцов сын, видал кого-нибудь в эту ночь?
- Никого не видал.
- Не есь ты, брат, каравульщик, Иван Солнцов сын.
Подошла третья ночь.
- Ну, вы, братья, не есь каравулыцики. Заходите в юрту, ложитесь спать, покаравулю эту ночь я. Докуль будут над нам смеяться?!
Сидел-сидел, близ полночи уж подошло, Иван Кобыльников сын залез в шерсь. Слышит - шум. Прилетают три колпицы.
Ударились о земь - доспелись красными девицами. И подкосились всяка ко своей стрелке, и доспели хохотаньё: "То,- говорит,- моёго милого стрела,- и та говорит,- моёго милого,- и третья говорит,- моёго милого!"
И потом Иван Кобылышков сын и тайным образом подкрался под их кожухи и крылья и склал в карман.
До ставальной поры все вышивали и хохотали. Меж тем дошло время, когды лететь.
Соскочили и побежали ко своим кожухам и крыльям. Хватились - на том месте нету.
- Ах,- говорят русским языком,- сестрицы родимые, спропали мы! Нас суда рок носил!
- Хто,- говорит,- здесь хрешшоной? - Марфида-царевна спрашиват.- Ежели старше нас - будь отец наш, ежели младче нас - будь брат наш, ежели ровня наша - будь обручиик мой.
Иван Кобылышков отвечат в шерсте:
- Да верно ли твое слово будёт?
- Царско слово три раз не говорится, раз только говорится.
Он выходит из шерсти.
Ну, он сколь красив, а она красивше его ешшо. Он ей заглянись так любезно, а она ему заглянись и пушше того. Тожно сошлись рука в руку, перстням золотым переменились и потом поцеловались и сказал:
- Люби ты меня и я тебя!
И она ответила:
- А хто у тебя товаришши? У меня сестры есь.
Потом он своих братовьёв стал будить.
- Эх, братья, сонны тетери, вставайте!
Они стали, вышли из юрты.
- Ну, вот вы, каравульшики, не могли скаравулить, хто к нам ходил. Почему и скаравулил себе обручницу и вам товаришшов.
И тем же поборотом и братья взяли своих жен и обручились. И стали в этой же юрте поживать все шесь человек.
Переночуют ночь, а наутро оставляют жен домовничать, сами уходят поляничать.
Вдруг стал Иван Кобыльников сын замечать над своим бабам, наипаче над своей: стала блёкнуть, сохнуть. И стал он говорить братовьям:
- Что жа, братья, стало быть к нашим женам кто-нибудь ходит, оли оне стали печалиться.
На другой раз заметил у них под юрту норы вырыты. Не понадеялся на братовьев, послал их поляпичать.
- Ступайте,- говорит,- с сегодняшнего дня поляничать, а я останусь каравулить.
Братья ушли в самы полдни.
Иван Кобыльников сын остался на каравуле.
Выпалзыват огненной змей в юрту и принялся груди сосать у жен. Тем он их и крушил и сушил. Натянул он свой тугой лук, наложил калену стрелу и прямо его в грудь ударил.
Он покатился с его обручницы, с жены прямо в нору. Только ответил русским языком:
- Ну, Иван Кобыльников сын, жди ты меня через три дни с огненной тучей.
Собрались братья. Иван Кобыльников сын говорит:
- Ну, братья, давайте в трои сутки стрелы доспевать. Нашел я супостата. Только я убить вовсе не убил, а только ранил. Вот через трои сутки обешшался он прибыть с огненной тучей.
И в трои сутки они доспели луки да стрелы. На последни сутки делали, делали... Иван Кобыльников сын и говорит:
- Ну, Иван Месяцов сын, поди-ко, посмотри, подвигатся ли где туча.
Иван Месяцов сын вышел и говорит:
- Ох! Братья, подыматся от земли туча черна.
Не через долгое время посылат Иван Кобыльников сын Ивана Солнцова сына.
Вышел Иван Солнцов сын и отвечат:
- Ох! Братья, туча огромадная идет, близко и близко подходит.
Не через долгое время выходит Иван Кобыльников сын - туча по-над головой.
И давай оне биться, и давай биться. Бились, бились - треть тучи ушли. И Ивана Месяцова сына убили. Три трети осталось. Бились, бились - половину тучи убили, и Ивана Солнцова сына убили. А половина тучи осталась, войска "нечистов-дьявольков". Бился, бился Иван Кобыльников сын, треть тучи побил, и его побили. Заб рала ихних жен и увела - энта треть остальная.
Кобыла по лесу гуляла-ходила. Хватилась свово сына и побежала стрелку искать. Прибежала в это войско с головы, стрелку доискалась. Стрелка обронена.
- Должно быть неживой мой сын!.. И давай ходить по головам. Ходила, ходила - нашла его голову с туловишшем. Взяла его лизнула, обвернулась, задом ляггнула - он сросся; другой раз лизнула, задом обвернулась, лягнула - он вздрогнул; третий раз лизнула, задом обвернулась, лягнула - он и на ноги встал.
- Ох! Мамаша,- говорит,- я долго спал. Оживи,- говорит,- моя родительница, моих товаришшов, Ивана Солнцова сына и Ивана Месяцова сына.
Разыскала их головы, Ивана Солнцова сына и Ивана Месяцова сына, совсем с туловишшам. Тем же поборотом, как его оживляла, так и их оживила. И говорит сын матери:
- Ну, мамаша, а где же наши жены?
- Я не знаю.
И говорит он своим братовьям:
- Ну, братья, стало быть нехристь увела.
И мать сыну наказала:
- Опеть жа эдак стрелку станови, и я буду знать.
Сама убежала в широку долину.
- Ну, братовья,- говорит Иван Кобыльников сын, - станем-те нонче трои сутки зверье бить да ремень шить.
И били трои сутки зверье и сшили ремень в трои сутки.
- Ну, братовья,- говорит Иван Кобыльников сын,- спускайте меня на ремне в эту пору, а недостанет ремня, свои кушаки наставляйте. Через двенадцать суток если за ремень не подёрну, от норы отходите, куда глаза глядят.
Спускали-спускали, и остановилась колыбели, и только один кушак надвязали.
Вышел там Иван Кобылышков сын из колыбели и пошел по тропинке. Шел он близко ли, далеко ли по этой по тропинке и увидал озерину. Кругом ее обошел, эту озерину. Видит - три зеншииы идут. Запал он в чепыжник. Поравнялись с ним эти зеншины, а он как раз стрелку через дорогу прострелил. А эти зеншины шли на озерину с ведрам по воду, и первая из них была его жена. И как эта стрелка пролетела, она удрогнулась и скрикнула:
- Ох!
Сестры у ней спрашивают:
- Что ты, сестра, удрогнулась?
- А мышонок пробежал... (Имя не сказала.)
Зачерпнули воды, и она стала замешкиваться. Сестры и говорят:
- Что ты, сестрица, стала отставать?
- А так,- говорит,- мне до ветру охота... Идите. Я приду.
Ушли сестры с виду, она и молвит русским языком:
- Что, мой обручник здесь?
Он отвечат:
- Здеся.
Она рада доспелась. Занялись оне разговором. Стал Кобыльников сын выспрашивать:
- Что, змей лежит али чего делат?
- Лежит,- говорит,- в колыбели, раненой.
- Как к ему подойтить,- говорит,- посичас оли погодя?
- Ты приходи,- говорит,- в самы полдни и примечай, как колыбель станет утуляться и он разоспится.
Иван Кобылышков сын подошел - колыбель ешшо качатся; стало полдни - колыбель стала утуляться. Змей разоспался. Подошел он к колыбели, наперво прищемил - придал жисть змею короткую. Энту треть тут всеё погубил после того.
И пошел, стал своих жен забирать. И чего ему надо из запасу - забрал. Забрал, чего ему надобно, и повез своих жен к норе.
Привязал Иван Кобыльников сын имущество к ремню. Подернул - братья и поташшили. Спустили ремень, он привязал Ивана Месяцова сына жену. Подернул - они поташшили. Ремень спустили опеть. Привязал он Ивана Солнцова сына жену. Подернул - они поташшили.
Ремень опеть спустили. С женой со своёй у них спор сошелся. У ней серцо чуяло... Она спорит:
- Давай тебя привяжем...
А он спорит.
- Давай тебя привяжем; ты,- говорит,- тут испужасся.
Иван Кобыльников сын переспорил-таки. Привязал ее. Подернул. Оле поташшили. Ремень спустили опеть. Привязался сам. Подернул, до верху стали дотаскивать, взяли ремень обсекли, он упал и убился. Забрали его жену и новели от норы.
Стали к его жене приступать, приступ делать. Она не сдается. Оне стали ее карать. Где корьёвишшо, юртовишшо сдернут, на нее складут - она ташшит, своими слезами умыватся. Стала сохнуть, блекнуть. Высохла, как былинка, насилу ноги носят.
Кобыла схватилась свово сына. Прибежала к его стрелке - стрелка упала. Давай она бегать кругом норы. Бегала, бегала - уходу нету. Разворочала она юрту, видит - нора. Понюхала в нору - в норе. Давай спускаться в нору. Спустилась в пору, увидала его мертвого. Таким же поборотом, как она раньше оживляла его, оживила. Вскочил Иван Кобыльииков сын, отряхнулся.
- Ах, мамаша,- говорит,- долго я спал!
- Да,- говорит,- кабыт не моя голова, ты бы вовсе не встал.
- Что, мамаша, как мы попадем на верхней хвост?
Она ему отвечала:
- Дитя! В трои сутки зверьев бей, трои сутки сумы шей, да в сумы в куски руби, да мясо клади.
Наклал Иван Кобыльников сын две сумы в трои сутки полные и перевесил через мать-кобылу. И она говорит:
- Дитя! Садись и ты на меня. Я,- говорит,- поползу, оглянусь, ты,- говорит,- по куску подавай мне - буду подыматься.
Как оглянется, он подавал и подавал по куску.
У него запасу не хватило. Она оглянулась, ему подать и нечего... От правой ноги своей палец отрезал, подал. Второй раз оглянулась, ему подать нечего. От правой ноги своей икру отрезал, подал. Третий раз она оглянулась - ему подать нечего. От правого уха своего отрезал, подал.
Выползли па верхний свет. Слез Иван Кобыльников сын с матери своей кобылы.
- Ах, дитя,- говорит,- я пристала! Что ты,- говорит,- на последе сладкой мне хрящ подал?
- Ухо,- говорит.
Выхаркнула - прилизала.
- Второй раз чего мне сладко подал?
- Икру от правой ноги своей.
Выхаркнула - прилизала.
- Кого ты в первый раз твердо подал?
- Палец,- говорит,- от правой ноги своей.
Выхаркнула - прилизала.
Тожно Иван Кобыльников сын ей в ноги пал, в право копыто.
- Пропинай,- говорит,- родима мать, навеки, должно, нам не видаться!
Она и говорит:
- Куда ты девасся, сыночек?
- Я, мамаша,- говорит,- своих братовьев догонять стану да свою жену.
Распростился и побежал. Мать осталась. Бежал, бежал... Где прибежит на огнище - нет, на другое - нет. На третье ночевишшо прибежал - они только ушли перед ним.
Завидел вперед зеншипу. Зеншина везла на себе ношу, прямо тунгуску нарту, и на нарте шесты с юрты складены - оне карают ее. Везет она себе одна, тех не видать; идет, слезам умыватся. Иван Кобыльников сын давай с нарты шестики сбрасывать. Она не слышит. Сбросал все шестики - она и учуствовала, что на ее плечах легко стало. Остановилась, оглянулась и увидала доброго молодца. Во слезах не могла признать.
- Ах ты, доброй молодец! Так мне край приходит, а ты слез прибавил, горя.
Он тожно ее остановил:
- Что жа Марфида-царевна, эка стала, не можешь признать свово обручника?
У ней тожно серцо воскипело, слезы свои подтерла, тожно признала.
- Ах, ты мой возлюбленой обручник, так мне край пришел, вишь, как меня карают!
Бросил Иван Кобыльников сын всю эту нарту, посадил жену себе на плечи и давай нагонять братьев. Стал до них добегать... Они стали огонь добывать на ночевишшо. Сосердил свое серцо, как добежал, так обех прищимил,- жисть коротку придал.
Тожно из кармана вынул кожухи и крылушки, повы- дернул перышки. Из шести Крылов тожно поделал себе крылушки. Потом oнe надели на себя кожухи, возвились все четверо и полетили на Сиенски горы, на шелковы травы. Потом тут с ней обвенчался. И эти ее сестрицы стали ее прислуги. И стал он жисть здеся кончать, и сказке конец.
|
ПОИСК:
|
© Злыгостев А. С., дизайн, подборка материалов, оцифровка, статьи, разработка ПО 2001–2019
При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
http://skazka.mifolog.ru/ 'Сказки народов мира'
При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
http://skazka.mifolog.ru/ 'Сказки народов мира'