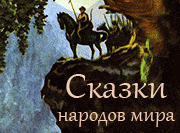
Предисловие
«Смилуйся, государыня рыбка! Пуще прежнего старуха вздурилась, Не дает старику мне покою...»
Кто с самого раннего детства не помнит взбалмошной старухи, охваченной вдруг непомерной гордыней и не успокоившейся в своих притязаниях до тех пор, пока она не осталась перед разбитым корытом? Прозрачный пушкинский стих навсегда запечатлевает ее в нашей 028(01)-76рядом с нею - старика, покорного ее воле, и чудесную золотую рыбку, подательницу всяческих благ. Сам Пушкин и многие поколения русских людей доу же сказку, пусть в другом изложении, из уст родных и наставников.
Но что это? Не та ли старуха - жалкая, оборванная, с волосами, торчащими в стороны, словно прутья старой корзины, отрезвевшая после потери нежданно свалившихся на нее богатств и могущества, - встает перед нами в сказке маленького народа пенго, живущего в глухом уголке Центральной Индии и во многом еще сохраняющего традиции племенного уклада? Конечно, это ее голос: «Иди, старый, проси... Пусть будут в том доме кладовые, полные золота, пусть от риса и чечевицы амбары ломятся, на заднем дворе пусть новые повозки и плуги стоят, а в стойлах буйволы - десять упряжек». И к кому же гонит она старика? К золотой рыбе. Здесь это, правда, не рыбка, а рыбища, но она тоже говорит человеческим голосом и способна щедро вознаградить своего избавителя.
Оказывается, знакомая сказка существует за многие тысячи километров от наших краев - у народа, ни образом жизни, ни обычаями, ни языком на нас не похожего. Если же заглянуть в фольклорные справочники, то выяснится, что сказка о золотой рыбке бытует чуть ли не во всей Европе - от скандинавского Севера и Исландии до стран Средиземноморья, заходя также и в Турцию. Она известна, кроме того, не только в Канаде и Латинской Америке (сюда ее могли принести переселенцы из Европы), но и в далекой Индонезии и кое-где в Африке.
Как получилось такое? Почему не только у наших соседей, но и в самых отдаленных землях встречаем мы произведения народного творчества, столь близкие нам по содержанию и по духу? Откуда взялось такое сходство сказочных сюжетов? Этот вопрос встал перед исследователями фольклора с самого начала систематического изучения сказки.
Еще в прошлом веке было выдвинуто несколько теорий, пытавшихся объяснить это сходство.
Первая такая теория известна под названием мифологической. Она сформировалась полтора столетия тому назад. Согласно этой теории, единым источником, из которого развились сказки, легенды, эпические поэмы, явились древние мифы, воспринимавшиеся как «плод народной души» - результат безличного коллективного творчества. Ее создатели и приверженцы, в число которых входили известные собиратели немецкого фольклора братья Гримм (Якоб, 1785-1863, и Вильгельм, 1786-1859), английский индолог Макс Мюллер (1823-1900), а у нас - А. Н. Афанасьев (1826-1871) и Ф. И. Буслаев (1818-1897), много внимания уделяли, с одной стороны, сопоставлению сказок и мифов, а с другой - разысканиям в области этимологии различных названий и имен, с помощью которых пытались объяснить происхождение тех или иных обычаев, культов и верований, отразившихся в фольклоре. Формирование мифологической теории совпало по времени с подъемом сравнительного языкознания, установившего родство большинства языков Европы, а также Индии и Ирана (индоевропейская языковая семья). Будучи с ним органически связана, эта теория искала такого же родства и в культурно-исторической сфере. Подобно тому как лингвисты стремились восстановить доисторический «праязык», исследователи народного творчества пытались реконструировать доисторический «прамиф». Поскольку древнейшей сохранившейся формой индоевропейского языка в ту пору считался древнеиндийский (ведический), древнейшим памятником индоевропейской мифологии были признаны веды - древнеиндийские священные книги. Из слова «арья» (так именовали себя древние индийцы и иранцы) проистекло второе наименование мифологической теории - арийская.
Мифологическая школа собрала богатый сравнительный материал и способствовала раскрытию истории многих конкретных сюжетов и мотивов, но решить до конца вопрос об источниках сходства она не смогла. Сомнительной оказалась сама отправная посылка, что миф должен предшествовать сказке. Возражая против нее, известный русский исследователь народного творчества академик А. Н. Веселовский (1838-1906) писал: «Если миф является антропоморфическим истолкованием природных явлений схемами человеческих отношений, то эти схемы должны были предшествовать их мифологическому приложению, например, бой с змеем, чудовищем и т. д. - образу небесного змееборца» (Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 501-502.). К тому же с течением времени выяснилось, что веды вряд ли можно считать в прямом смысле памятником народного творчества - они подверглись обработке в замкнутом кругу жреческой касты, да и представление об их исключительной древности оказалось преувеличенным. «Арийский» характер теории был подорван открытием сходных сюжетов и у неиндоевропейских народов.
Другая теория - миграционная - искала основной источник сходства сюжетов и мотивов в их заимствовании. Здесь, как и в формировании мифологической теории, немалую роль сыграли памятники индийской письменности, но на этот раз иного жанра - так называемые «сказочные сборники». Важный этап становления этой теории был связан с предпринятым немецким индологом Т. Бенфеем (1809-1881) исследованием древнейшего из сохранившихся сборников такого типа - «Панчатантры» (III-IV вв.). Из Индии через Переднюю Азию этот сборник в переводах и пересказах вышел в Европу и с его греческой версии, получившей название «Стефанит и Ихнилат», был переведен на древнеславянский, а в XV в. попал и на Русь. Богатейшую сокровищницу сказочных сюжетов представляют также буддийские джатаки - рассказы о перерождениях Будды. Немало их разошлось по всей Азии, а некоторые, трансформируясь по пути, попадали и в Европу. Из позднейших собраний особенно выделяется своего рода «сказочный эпос» - «Катхасаритсагара», или «Океан сказаний», кашмирского поэта Сомадевы (XI в.), в основной сюжет которого вкраплено около 350 вставных историй, где сказка переплетается то с мифом, то с новеллой, то с анекдотом. Богатство индийских повествовательных сборников породило популярное одно время мнение об Индии как о «родине сказок» ( Большое число древнеиндийских сказочных сборников ныне доступно в русском переводе. К перечню их изданий, содержащемуся в предисловии к книге «Повести, сказки, притчи древней Индии» (М., 1964), нужно добавить две книги перевода «Катхасаритсагары»: Сомадева. Повесть о царе Удаяне. М., 1967, и Сомадева. Необычайные похождения царевича Нараваханадатты. М., 1972; заключительная, третья книга находится в печати.). Среди ученых, плодотворно разрабатывавших идею «странствования» сказки, нельзя не назвать известного русского индолога академика С. Ф. Ольденбурга (1863-1934).
Однако и эта теория оказалась не универсальна. Слишком много встречается случаев сюжетного сходства в фольклоре пародов, географически и историко-культурно разобщенных настолько, что предположить между ними сколько-нибудь устойчивый контакт крайне трудно.
Третья теория, появившаяся во второй половине прошлого века, объясняла сходные явления в фольклоре разных народов тем, что сходство условий жизни и общность психологии людей на ранних ступенях развития общества порождает одни и те же или подобные способы символического отражения действительности. Она известна как теория бытового психологического самозарождения сюжетов. Выдвинувшая ее школа называется антропологической, или этнографической, поскольку выросла она прежде всего из исследования быта, духовной культуры и социальных отношений у народностей и племен, стоявших на доклассовой ступени развития. Большую роль в распространении идей этой школы сыграли труды английского филолога и этнографа Дж. Фрейзера (1854-1941). Поддерживавший эту теорию академик А. Н. Веселовский считал, однако, что, давая удовлетворительное объяснение сходству повествовательных мотивов (простейших смысловых единиц содержания), она едва ли может объяснить сходство сюжетов, представляющих своеобразные сцепления мотивов, некоторые устойчивые их комплексы.
Дальнейшее углубленное изучение структуры и содержания сказок, особенно волшебных, начало которому положил ленинградский фольклорист В. Я. Пропп (1895-1970), позволило выявить удивительную универсальность основных принципов их строения. Оказалось, что типологическому сходству не только мотивов, но и сюжетов можно найти историческое объяснение, если, конечно, не ограничиваться историей «писанной», а проникнуть и в предысторию известных нам обществ. Отношение между сказкой и действительностью своеобразно - оно далеко не всегда оказывается прямолинейным; под традиционной «сказочной» оболочкой часто кроется трансформация в народном сознании уходящих обычаев и обрядов. Исследованием общих принципов соотношения сказки с действительностью, основных закономерностей сказочного творчества народов мира занимается историко-типологическое направление в фольклористике, успешно развиваемое советскими учеными. Поиск генетических истоков сказок оно ведет через раскрытие сложных органических связей жанровой специфики фольклора с миром народной жизни, характерными народными представлениями и существовавшими социальными институтами.
Сравнительное изучение сказок в наши дни облегчается той колоссальной работой, которую проделали фольклористы в области систематизации сюжетов и мотивов. Начал ее финский ученый Антти Аарне, издавший в 1911 году «Список сказочных типов». Он расположил сказки по классификационным рубрикам, и каждой сказке (сюжету, или типу) был присвоен постоянный номер (для сказок нашего сборника эти номера приведены в примечаниях). Выделенные Аарне сюжеты первоначально не покрывали и половины отведенных для них двух тысяч номеров, но дальнейшее пополнение списка привело к тому, что последние издания указателя, подготовленные американским исследователем С. Томпсоном, содержат уже более трех тысяч сюжетов и их вариантов. Для русских сказок указатель сюжетов по системе Аарне был издан в 1929 году Н. П. Андреевым. Указатель фольклорных мотивов занимает пять объемистых томов с шестым - справочным.
Классификация, предложенная Аарне, далека от совершенства и вызывает немало нареканий. Прежде всего, построена она на разномерных основаниях и поэтому дает перекрещивающиеся членения - одна и та же сказка в зависимости от того, какой признак будет положен в основу классификации, может попасть в разные рубрики. По главные претензии к этой классификации связаны с тем, что опирается она преимущественно на европейский материал и выглядит тем менее универсальной, чем далее углубляемся мы в Азию, Африку, Океанию или Америку. Однако при всех своих недостатках она сыграла и продолжает играть положительную роль, открывая возможность более или менее надежных суждений о мере типического (или, наоборот, специфического) в том или ином национальном фольклоре.
Количество индийских сказочных сюжетов, судя по специальному региональному указателю Томпсона и Робертса, не так уж велико - оно не превышает 550 номеров (для сравнения можно напомнить, что 579 русских сказок одного лишь собрания Афанасьева представляют около 350 сюжетов). Правда, в указателе учтена только «живая» сказка; мифологический материал, а также сюжеты «нетипические», встретившиеся составителям менее чем в трех вариантах, в него не включались. Поэтому можно ожидать, что более тщательный сбор и регистрация сказок, особенно тех, которые рассказываются на многочисленных индийских диалектах и бесписьменных языках, откроют нам еще немало сюжетов. Что же касается предлагаемого читателю сборника, то он включает лишь относительно небольшую долю сказочного богатства Индии.
Сборник этот выходит вторым изданием (См.: Сказки народов Индии. М. -Л. 1964.). Новое издание значительно отличается от предыдущего своим составом - в нем заменено более трети сказок. Сделано это с тем, чтобы равномернее отразить сказки разных районов страны и особенно - малых народностей, которые в первом издании представлены не были. Учитывалось и своеобразие привлекаемых вновь сюжетов. Как и в первом издании, предпочтение здесь отдается «живой», изустно передаваемой сказке. Сюжетные совпадения со сказкой «литературной» немногочисленны. В большинстве таких случаев вполне можно допустить многовековое параллельное существование одних и тех же сюжетов в двух традициях - устной и письменной. Только на некоторых легендах из заключительного раздела сборника лежит явный отпечаток литературной обработки.
Наиболее значительную группу составляют в сборнике сказки, распространенные в центральных областях Северной Индии (штаты Уттар Прадеш, Бихар, Мадхья Прадеш, Хариана), где основным письменным языком служит хинди. Вошли сюда сказки и из таких национальных районов, как Бенгалия, Панджаб, Кашмир, Махараштра, а также из южных штатов Андхра Прадеш и Тамилнаду, где говорят на языках обособленной, дравидской, семьи - телугу и тамильском. Малые дравидские народности, во многом сохраняющие племенной образ жизни, представлены сказками кота, парджи и пенго; народы мунда, потомки одной из древнейших групп населения страны, - сантальскими и корку. Конкретные сведения о локальной или племенной принадлежности каждой сказки сообщаются в примечаниях.
В предисловии к первому изданию было рассказано о том, в каких условиях бытует индийская сказка, когда и как началось ее собирание. К сказанному там можно добавить, что по мере социальных и культурных преобразований сказка в Индии все более вытесняется из повседневной жизни, подобно тому, как это происходило в Европе, а затем и в России. Не сказочные чудеса, а глубокие социальные перемены, происходящие у всех на глазах и изо дня в день меняющие лицо страны, владеют теперь умами индийских крестьян. Редеют ряды бродячих «святых» - факиров и садху - носителей древних преданий. Даже дети, связанные со школой и знакомые с книгой, все реже осаждают стареньких бабушек требованиями рассказать сказку, - отмечает современный исследователь бихарского фольклора П. Рой Чоудхри. Только национальные меньшинства еще в какой-то мере хранят прежние традиции, и порой можно видеть, как в разгар жаркого дня сантальские мальчики-пастушки, собравшись под тенью дерева, слушают старую сказку, в то время как их скот лениво бродит вокруг.
Индийские фольклористы хорошо сознают, что сохранить исчезающее богатство живого народного слова можно только упорной и планомерной работой, которую не отложишь на завтра. После освобождения Индии от колониального гнета и образования республики в разных концах страны - в Панджабе, Брадже, Бихаре, Бенгалии - один за другим появляются новые сборники сказок и песен. Неравные по качеству записей, они все же выгодно отличаются от большинства изданий прошлого тем, что фольклор воспроизводится здесь большей частью не в переводах, а на тех диалектах, на которых услыхал его собиратель. Большую работу по сбору фольклора осуществляют также этнографы и лингвисты - исследователи малых народов и их языков. В частности, к записям, выполненным лингвистами, восходят приводимые в сборнике переводы сказок кота, парджи и пенго. Объединению усилий всех тех, кто интересуется индийским народным творчеством, служит журнал «Фольклор», выходящий в Калькутте.
В предисловии к первому изданию сборника говорилось о реалиях индийской сказки и об идейном ее содержании. Кроме того, за последние пятнадцать лет советский читатель получил немало популярных изданий, не только знакомящих его с индийской сказочной традицией (К упомянутым выше изданиям древнеиндийских сказочных сборников можно добавить «Сказки Центральной Индии» (М., 1971) и «Легенды и сказки Гондваны» С. Фукса (М., 1970), содержащие образцы индийского племенного фольклора, а также переиздание книги «Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 году И. П. Минаевым» (М., 1966).), но и дающих хорошее представление о мифологии, которая столь явственно отражается в сказках (Нарайан Р. К. Боги, демоны и другие. М., 1974; Мифы древней Индии. Литературное изложение В. Г. Эрмана и Э. Н. Темкина. М., 1975.). Поэтому есть смысл остановиться здесь на сюжетной специфике индийской сказки - на том, что сближает ее со сказкой других народов, прежде всего европейской, и что ее выделяет. В качестве сравнительного материала мы воспользуемся русской сказкой, как наиболее знакомой нашим читателям.
В соответствии с традиционной классификацией в сборнике выделены сказки о животных, волшебные и бытовые. Особым разделом даны также сказки-легенды.
Оригинальные сказки о животных в Индии весьма распространены у лесных племен, жизнь которых до недавнего времени была тесно связана с дикой природой. У крупных народов, особенно в литературном своем преломлении, такая сказка принимает все более заметный аллегорический характер и смыкается с нравоучительной басней. Большинство содержащихся в сборнике сказок так или иначе перекликается с русскими, при этом есть совпадения прямо-таки разительные.
«Насмеши меня и плакать заставь, накорми и из беды вызволи», - требует капризный шакал от своего друга - куропатки («Шакал и куропатка»). Но ведь те же мотивы сочетаются и в русских сказках о лисе: дрозд выручает ее из ямы, кормит и поит. Только делает он это не по дружбе, а по принуждению, и потому требование насмешить исполняется в разных вариантах русской сказки по-разному и оборачивается либо действительно зубоскальством над бедами и увечьями людей, бестолково ловящих птицу, либо гибелью самой шантажистки лисы, на которую дрозд наводит собак (конкретные варианты таких параллелей указываются в примечаниях к сказкам).
Вот двое лесных соседей принялись огородничать вместе, и более хитрый из них заранее уговаривается, как им делить урожай («Лиса и шакал»). Точь-в-точь как наш мужик, который обещает медведю: «Тебе вершки, а мне корешки», - и забирает сладкую репу, а на другой год сеет пшеницу и опять не остается внакладе. А вот шакал полощет в реке кусок дерна, а когда дернина разваливается, требует от реки в компенсацию рыбу; за рыбу - от пня щепок, за щепки - у старухи лепешек, за лепешки - козленка, за козленка - невесту. Кто это, как не наша лисичка-сестричка, которая «шла по дорожке, нашла скалочку; за скалочку - гусочку, за гусочку - индюшечку, за индюшечку - невесточку»?
Но сходство это далеко от прямого копирования. Его скорее можно назвать варьированием на общие темы. На сходном фоне выступают заметные различия. Прежде всего бросается в глаза специфика воспроизводимой реальной обстановки. Сами герои не идентичны. Рядом с привычными нам хитрой лисой, незадачливым медведем, зайцем и курицей, но еще чаще вместо них, действуют иные животные - шакал, тигр, обезьяна, крокодил, краб. Особенности тем заметнее, чем подробнее описываются внешние условия, в которых развивается действие. Однако гораздо существеннее другое - явное своеобразие целого ряда сюжетов.
Очень характерны сантальские сказки «Тигр и заяц» и «Вор, тигр, медведь и шакал», в тех или иных вариантах известные и другим малым народностям Центральной Индии. В первой из них человек оказывается свидетелем позорного поражения, которое тигр терпит от маленького животного (это может быть и ящерица, и краб). Отпущенный подобру-поздорову с условием молчать об увиденном, человек проговаривается, а, попав вновь в лапы к тигру, остроумно выпутывается, намекая, что обидчик сидит в его теле и только и ждет, как бы вырваться наружу. Центральным мотивом второй служит «кража» тигра, в темноте или спьяна принятого вором за быка, лошадь или большую овцу.
Специфична и сказка «Глупый крокодил», варианты которой издавна пользуются популярностью по всей Индии (например, в «Панчатантре» рассказывается, как шакал заставил подать голос льва, подстерегавшего его в пещере). Мотивы, на которых она построена - «хватание за ногу», «говорящая нора», «шевелящиеся предметы», - широко известны в тропических странах.
Не менее любопытные соотношения демонстрирует волшебная сказка. Само это понятие достаточно условное, и воспринимается оно по-разному. В обиходе к волшебной относят всякую сказку с элементами сверхъестественного. Но у фольклористов есть и более специальное понимание этого жанра. По определению, предложенному В. Я. Проппом, волшебная сказка в узком смысле «начинается с нанесения какого-либо ущерба или вреда (похищение, изгнание и др.) или с желания иметь что-либо (царь посылает сына за жар-птицей) и развивается через отправку героя из долга, встречу с дарителем, который дарит ему волшебное средство или помощника, при помощи которого предмет поисков находится. В дальнейшем сказка дает поединок с противником (важнейшая форма его - змееборство), возвращение и погоню. Часто эта композиция дает осложнение. Герой уже возвращается домой, братья сбрасывают его в пропасть. В дальнейшем он вновь прибывает, подвергается испытанию через трудные задачи и воцаряется и женится или в своем царстве, или в царстве своего тестя» (Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 7.).
Исследуя русские волшебные сказки, В. Я. Пропп обнаружил в них строгие закономерности сочетания основных моментов действия, или функций. Эти закономерности он описал в своей книге «Морфология сказки», где вывел общую формулу волшебной сказки, включающую двадцать четыре основных функции (важнейшие из них перечислены в приведенном выше определении). Разные сказки отличаются одна от другой различной полнотой воспроизведения основных функций и возможностью повторения, а чаще - утроения некоторых из них, что приводит к появлению дополнительных ходов, развивающих общее действие. При этом сложность композиции волшебной сказки, порождая широкие возможности варьирования, делает менее вероятными те последовательные совпадения, какие мы наблюдали в сказке о животных. Они выглядят скорей исключением.
Такова, например, сказка «Волшебное кольцо», но и тут индийскую версию от одноименной русской отличает специфическая мотивация исчезновения жены героя. В русской сказке королевна стыдится, что ей пришлось выйти за мужика; она сама похищает талисман и с помощью волшебных молодцов отделывается от постылого мужа. В индийской, напротив, она, как и герой, оказывается жертвой интриги. Здесь вводится популярный для Индии мотив «любви по плывущему волоску». Причесываясь, красавица жена роняет свой золотой волос в реку, он уплывает в далекие края и попадается на глаза царевичу, которого тут же сражает любовь к героине. На поиски ее посылается сводня, которая и похищает красавицу вместе с талисманом.
Другой пример редкого совпадения сюжетных ходов - сказки «Грошовый слуга» и русская «Сивка-бурка». Особенно обращает на себя здесь внимание характерное сочетание двух сюжетов: 1) с помощью волшебного коня герой добивается руки царевны, сидящей в высоком тереме, и 2) герой состязается с другими зятьями (или сыновьями) царя на охоте и всех их посрамляет. В русской сказке эта охота имеет определенную цель: царь посылает зятьев добыть ему чудесное животное - «свинку золотую щетинку» или «оленя золотые рога». В индийской эта целевая направленность стерта, но последовательность действий сохраняет полный параллелизм: герой один преуспевает в охоте; он бросает добычу, предварительно сняв с нее «знаки»; клеймит соперников (в русской сказке - вырезает у них ремни из спины) и наконец их разоблачает. Одинакова и манера его поведения - он старательнейшим образом валяет дурака. Достаточно сравнить описания выезда на охоту: «Иванушка-дурачок взял вместо доброго коня коростовую кобылу, сел на нее задом к голове, а передом к хвосту...» (Аф., 564) и «Взял грошовый слуга ломаное ружье, сел на осла и поспешил за царевичами... Держит он ружьишко задом наперед, на осле сидит лицом к хвосту».
Но чаще совпадает только сюжет или отдельные мотивы. Вместе с тем среди индийских волшебных сказок немало своеобразных, таких, к которым русскую параллель подобрать нелегко, а если она и находится, то соответствие здесь улавливается лишь в рамках самой общей идеи. Примером может служить сказка о юноше, чья душа заключена в ожерелье: он падает бездыханным, едва это ожерелье касается шеи недоброжелательницы, и вновь оживает, когда оно снято («Заветная тайна»). Сама ситуация временной смерти и избавления героя через женитьбу заставляет вспомнить сказки о спящей красавице, но на этом сходство кончается.
Более простые волшебные сказки, большинство которых можно принять как случаи частичной реализации приведенной выше полной модели, дают в общем те же соотношения. При сходстве сюжета или основного мотива они показывают разную степень подобия в конкретном его воплощении. В индийском герое, который с помощью волшебного корешка превращает царевну в обезьяну, а затем, вернув ей человеческий облик, берет ее в жены («Может, царевну в дом приведешь?»), проглядывает наш соотечественник, нашедший чудесные ягоды, от которых на лбу у людей вырастают рога. Сказка «Дети в барсучьей норе» излагает коллизию, хорошо нам знакомую по «Сказке о царе Салтане», но еще ближе к ней народные варианты этого сюжета, типа «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Удивительное повторение истории Одиссея, попавшего в плен к Полифему, содержится в сказке народа кота с гор Нилгири (Южная Индия) - «Храбрецы из Кольмеля». Интересно, что реминисценцию того же сюжета дает русская сказка «Лихо одноглазое». И даже плачевная история «Сестрицы», характерная для индийского племенного фольклора, находит отзвук в нашей сказке «Чудесная дудка», где сестра из зависти зарезала братца, но была разоблачена тростниковой дудочкой, выросшей на месте убийства.
Как и в случае со сказкой о животных, конкретная обстановка действия придает индийской волшебной сказке свой колорит. Это касается и действующих лиц, как реальных, так и особенно фантастических, и ряда черт их поведения, и волшебных предметов, которые помогают им в достижении цели, и многого другого.
Герой, как и у нас, очень часто - царевич, отправляющийся на подвиги со своими старшими братьями или с товарищами. Если это человек низкого звания, он обычно сын ремесленника, а в племенном фольклоре его профессия и социальная роль могут не называться - он просто член племени. Земледелец же - «крестьянский сын» - здесь необычен. Как и в русской сказке, нередок мотив «дурачества» героя. Младшего царевича могут считать простачком, случается ему выступать и шутом, о простолюдине бывает известно, что он лентяй, неумейка, но такого законченного образа, как наш Иван-дурак, мы здесь не встречаем.
Среди женских типов антагонистки-завистницы рядом е мачехой и невесткой обычна фигура снедаемой ревностью жены-соперницы - отражение индийских брачных норм, допускавших многоженство.
Ярким своеобразием выделяются типы чудесных помощников и чудесных противников. Характернейшим воплощением дарителя служит подвижник, занимающийся в лесной глуши самоуглубленным созерцанием, - садху, саньяси или же джоги (йог). Этот персонаж, отражающий древнеиндийские религиозные установления, рекомендовавшие посвящать последние годы жизни отшельничеству и размышлениям о смысле существования, в сказке выступает как явный аналог нашей бабе-яге. За усердную службу он, как и яга, открывает герою путь к желанной цели, а порой и снабжает средствами для ее достижения. Так же, как и яга, он может ставить герою препятствия и даже покушаться на его жизнь. Как яга норовит сунуть Ивашечку в печь, так садху пытается сварить героя в кипящем масле («Анарзади»), и в обоих случаях герои спасаются одинаково - просят показать, что от них требуется, и злокозненный их противник сам получает то, что готовил гостю. Мотив «жестокого садху» известен в Индии издавна, он многократно отражен в санскритской литературе. Историческое объяснение ему могут дать первобытные человеческие жертвоприношения, память о которых в Индии позднее поддерживалась практикой некоторых шиваитских сект, приносивших кровавые жертвы жестокой богине Кали. Но сказочная традиция предпочитает относить подобные случаи на счет оборотничества: из-под личины «фальшивого» садху в сказке выглядывает кровожадный демон - ракшас.
Ракшасы, наряду с некоторыми другими разновидностями демонов, выступают в индийской сказке основными противниками героя. С ними ведут герои смертельный бой за приносимых им в жертву красавиц, у них похищают девушку-пленницу, волшебную птицу или чудодейственный плод - цель многотрудного путешествия. Ракшасы многолики: то это громадная рыба, то фантастическое животное, то человекоподобное существо ужасного вида, нередко многоголовое и многорукое. Одни черты, как изобилие вновь отрастающих голов, роднят их с нашим змеем, другие, как смерть, спрятанная в каком-нибудь тайнике, - с Кощеем бессмертным. Картина осложняется тем, что в демонологии индийской сказки совмещаются и племенные поверья, и образы, развитые богатейшей древнеиндийской мифологией, и представления, заимствованные из фольклора соседних мусульманских народов.
Порою в роли дарителей, а иногда и противников, но чаще всего испытателей героя в сказке действуют индуистские боги. Среди сказок и легенд с их участием особенно привлекает внимание одна - «Охотник и ворона». Герой ее не случайно назван охотником: он еще «начинающий» земледелец. У него нет постоянного поля, и каждый год или два он должен его готовить заново, расчищая лес и сжигая срубленные деревья. И вот бог-творец Брахма насылает на него всякие напасти, но, своевременно предупреждаемый вороной, он ухитряется сохранить посевы и собрать обильный урожай. Поразительно похожую ситуацию изображает русская легенда «Илья и Никола». Илья-пророк хочет наказать мужика - посылает на его ниву град, обещает плохой умолот, - ко святой Николай сообщает о его замыслах мужику и поправляет дело. Сходство обнаруживается даже в такой детали: чтобы получить хороший умолот, русский мужик вяжет маленькие снопы, а индийский охотник складывает рис в маленькие копенки.
Сказка «Лакхаи-патвари» на первый взгляд кажется подчеркнуто индийской. И обилие мифологических персонажей, и своеобразное устройство загробного мира, и индуистская концепция воздаяния - все ново и непривычно. Но под внешним оформлением кроются очень знакомые мотивы сказок об одураченном черте, воплотившиеся в озорной антирелигиозной сатире.
С волшебными сказками смыкаются новеллистические. Герой здесь тоже отправляется в путь для исполнения какой-то задачи, только перипетии его странствования выдержаны преимущественно в реалистическом духе. Рядом со сказкой «Почему смеялась рыба?», отражающей широко распространенный сюжет о мудрой деве, облеченный здесь в характерную для Индии рамку (загадка, намекающая, что в гареме у царя прячется мужчина, известна по «Катхасаритсагаре»), мы встречаем специфически индийское повествование об умной жене, не пожелавшей быть битой и одержавшей верх над самонадеянным мужем. Сказка о смелом и находчивом авантюристе может сочетаться с обычным и для санскритской сказочной литературы мотивом «не девицы и но жены» - историей девушки, покинутой женихом в разгар свадебной церемонии, но сумевшей затем завести от него сына, который дает урок своему отцу («Дер-сайл»).
Сказки такого рода служат мостом к собственно бытовым, излагающим характерные житейские ситуации, преимущественно юмористического свойства. В последних же, как и в сказках-легендах, о которых речь пойдет ниже, внешнее своеобразие бросается в глаза, пожалуй, наиболее резко. Это вполне естественно. Представляя собою фольклорный материал сравнительно позднего происхождения, бытовые сказки воспроизводят ту конкретную среду, в которой складываются описываемые ситуации. Материальные условия быта, общественный уклад и национальные традиции находят здесь самое непосредственное отражение. Например, в русской сказке жена, которую муж увидал целующейся в избе с солдатом, отговаривается тем, что виновато окно - оно-де само создает такие картины. Для Индии, где в деревенских, домах окон обычно не делают, эту роль в сказке играет волшебное дерево: заберись на него - и увидишь прелюбодеяние («Верные жены»). Порой одинаковый результат достигается с помощью одного и того же предмета, но совершенно разными путями. Шкура единственного быка, убитого завистливым соседом, приносит богатство индийскому бедняку, внезапно падая с дерева на воров, собравшихся делить добычу («Дара и староста»). В русской сказке продажа такой шкуры доставляет бедняку повод шантажировать неверную жену купца или ее любовника.
Но при всем том набор типических ситуация, которыми, собственно, и порождаются сюжеты и мотивы фольклора, оказывается в целом достаточно универсальным. В индийской сказке, как и в русской, мы сталкиваемся с ленивой работницей, которую ее муж или родные находят способ исправить («Лентяйка»), видим, как рассыпаются в прах воздушные замки, построенные незадачливым мечтателем («Тели и его слуга»), встречаем знахаря, чей успех строится на случайной удаче и звуковых совпадениях произносимых им восклицаний с именами участников кражи («Глупый брахман»). Как и наша, индийская сказка сочувствует бедняку, который находчиво разрушает козни завистливого богача и, ловко играя на его корысти, доводит его самого до сумы и могилы, едко высмеивает хвастливых «храбрецов» вроде нашего Фомы Беренникова и без устали потешается над глупостью и самодовольством.
Заключительный раздел сборника - сказки-легенды - содержит произведения нескольких жанров. С легендами, объясняющими, откуда взялись те или иные представления или названия, здесь соседствуют пересказы древних мифов и истории, связанные с легендарными или полулегендарными личностями. Органическая связь этих произведений с фольклором подтверждается не только характером их бытования - передачей из уст в уста, - но и самим их содержанием. Старинная легенда о возникновении города Паталипутра включает распространенный мотив добычи волшебных предметов путем обмана владельцев, неспособных поделить их между собой (точно так же герой русской сказки проводит леших). Мотивами бытовых сказок пронизаны повествования о Бирбале и Тенали Рамакришне. Легенда о поклонении змеям сочетает в себе элементы сразу трех фольклорных сюжетов: о никчемном на первый взгляд совете, купленном за высокую цену; о животном-попутчике, спасающем укушенного змеей героя; о змееборце, чьи заслуги хочет присвоить другой (кстати, это хороший пример того, как сочетаются воедино и сказка о животных, и типическая волшебная, и бытовая). По существу, это рядовая сказка, но ей дана этиологическая концовка, представляющаяся очень актуальной для Индии, где от змеиных укусов всегда гибло больше людей, чем от хищников. Однако такое объяснение при всем его внешнем правдоподобии исторически неверно. Здесь мы сталкиваемся с поздней попыткой практически обосновать ставший уже непонятным культ змей и змееподобных божеств. В действительности его возникновение связано с древнейшим мифологическим представлением о змее как хранителе вод, способном задерживать дождь или останавливать поступление воды в источники и водоемы. Такие мотивы поныне живут в индийском племенном фольклоре.
В связи с этим уместно сказать несколько слов об историзме сказки. Всякая сказка исторична постольку, поскольку она так или иначе отражает какой-то этап реальной жизни создавшего ее народа. Наряду с этим - широким - пониманием истории есть и более узкое, касающееся конкретных событий и лиц. Но и в том, и в другом случае историзм сказки нельзя понимать прямолинейно, без учета специфики преломления описываемых явлений в различных формах народного творчества. В сказке, связанной с историческими событиями, нам интересен не столько сам сообщаемый факт, сколько его этическая оценка. Едва ли кто-нибудь всерьез станет строить биографию Петра I на сложенных о нем сказках и анекдотах. Но выступающий в них образ благородного и демократического царя, человека, сильного телом и духом, не лишен исторической ценности, так как он характеризует не только объект, но и субъект - создателей сказки с их чаяниями и идеалами. Точно так же нет большого смысла искать биографические детали в легендах о Тенали Рамакришне или Бирбале - они интересны нам прежде всего как обобщенные образы заступников за обездоленных, сложившиеся в народном сознании определенной эпохи.
Особенно сложными путями выявляется подлинный историзм сказки, когда дело касается явлений глубокой древности. Как показал В. Я. Пропп, целый ряд фольклорных сюжетов содержит в себе художественное переосмысление и своего рода «отрицание» отживших обрядов и представлений. Например, спасение девушки от чудовища, которому она приносится в жертву, может оцениваться как героический акт только тогда, когда первоначальная цель жертвоприношения - достижение успеха в охоте или получение хорошего урожая - уже забывается и сам ритуал теряет свой смысл. Иначе такое его нарушение воспринималось бы как посягательство на благополучие племени. Во многих случаях лишь скрупулезный анализ позволяет вскрыть реальные элементы, лежащие в основе повествования и определяющие его ход.
Изложенное выше показывает, в каких сложных и многообразных соотношениях проявляются черты сходства и различия сказок разных народов. Закономерно, что больше всего расхождений наблюдается, так сказать, «на поверхности» - в формах конкретного воплощения сюжета. Чем далее погружаемся мы в глубину содержания, чем обобщеннее воспринимается ситуация и идея произведения, тем больше обнаруживается сходства. Но и тут есть немало совпадений, которых не объяснишь чистой логикой, и, напротив, достаточно примеров, когда аналогичные ситуации порождают совсем не одинаковые результаты.
Таким образом, близость индийской и русской сказки не может иметь однозначного объяснения. Здесь проявились, по-видимому, и генетические связи народов, как это показывают, в частности, последние исследования «основного» индоевропейского мифа - о боге грозы и его противнике, змееподобном держателе вод. В какой-то мере должно было сказаться и странствование сюжетов. Нельзя отрицать отражения в фольклоре некоторого сходства представлений о мире, возникавших у первобытных на? родов. И, наконец, далеко не последнюю роль играют общие закономерности устного народного творчества. Но показать, какое место принадлежит каждому из этих факторов в том или ином частном случае сюжетного совпадения, можно только углубленным его исследованием на самом широком фольклористическом, конкретно-историческом и этнографическом фоне.
Ведь и сама по себе индийская сказка не вполне однородна. Даже ограниченный материал нашего сборника демонстрирует не только резкие стилистические, но и заметные сюжетные различия между сказкой малых народностей, ведущих племенной образ жизни, и сказкой больших народов страны. Последняя нередко несет отпечаток культивированного жаяра, своего рода «устной литературы», не избежавшей зачастую и влияния письменной традиции. В первой несравненно больше непосредственной связи с повседневным бытом и живыми поверьями, выдумка здесь бывает неотделима от обыденной реальности (или представлений рассказчика о таковой). Это не значит, что здесь нет своих традиций, подчас, возможно, более древних, чем те, которые запечатлены в санскритских сказочных сборниках. На просторах Индии встретилось несколько этнических групп - дравиды, арии, мун да - и каждая внесла свою лепту в общую сокровищницу народной культуры.
Творение и живое достояние самых широких масс, сказки лишний раз убеждают нас в том, насколько тесные узы связывают человечество. Тут все дало себя знать: и древнее родство разных народов, и самые тонкие ниточки давних связей, и единство психологии людей, и общность законов материальной и культурной истории начиная с самых ранних ее ступеней.
|
ПОИСК:
|
© Злыгостев А. С., дизайн, подборка материалов, оцифровка, статьи, разработка ПО 2001–2019
При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
http://skazka.mifolog.ru/ 'Сказки народов мира'
При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
http://skazka.mifolog.ru/ 'Сказки народов мира'