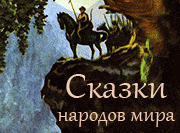
Предисловие
Центральная Индия, самое сердце большой древней страны... Обширное плато, окаймленное цепями холмов, местами сильно рассечено глубокими ущельями рек. В древности это была таинственная область девственных лесов, населенных, по представлениям жителей Северной Индии (об этом мы узнаем из их эпоса), лесными дикарями и различными сверхъестественными существами. Колонизация Центральной Индии пришельцами с севера началась уже в раннем средневековье, а в течение нескольких последних столетий во всех ее более доступных равнинных частях лес постепенно, но неуклонно сводился, и земли обращались в поля. Теперь леса в своем первозданном виде сохранились лишь там, где сильно пересеченный рельеф препятствует культурному земледелию. И все же Центральная Индия поныне остается одним из самых лесистых районов страны. Это здесь, в Сеони, родина прославленного Киплингом Маугли — именно здешние леса так красочно описаны в «Книге джунглей». Всего сто лет назад карта этой области была полна «белых пятен». И даже ныне здесь еще можно найти, хотя их с каждым десятилетием остается все меньше, уголки, почти полностью оторванные от внешнего мира, уголки, где не используют даже примитивной сохи и деревянного колеса, где нет не только железных дорог, но и проезжих грунтовых, а местные жители сохранили в своем быту немало черт первобытной родо-племениой организации общества.
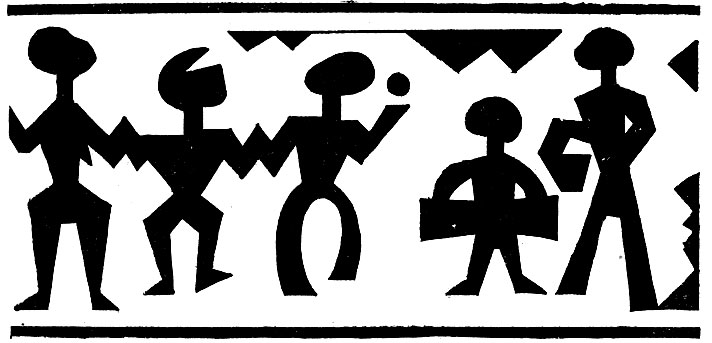
Сказки и мифы народов востока
Здесь, в нынешнем штате Мадхья Прадеш, что значит «Срединный штат», и соседствующих с ним на северо-западе и особенно на северо-востоке районах, рассеяны сравнительно небольшими группами (на фоне огромной массы населения Индопакистанской географической области, общая численность которого перевалила за полмиллиарда, группы в десятки и сотни тысяч и даже в миллион человек действительно выглядят небольшими) потомки древнейших жителей Индии — те, кого принято считать автохтонами, или коренным местным населением. В сегодняшней Индии их именуют «адиваси», что значит «первоначальные жители». Это — народности мунда, малые дравидские народности Центральной Индии, и сюда же можно отнести бхилов. Хотя ныне каждая из этих групп пользуется языками и диалектами, принадлежащими к разным лингвистическим семьям: мунда — языками мунда, относимыми к аустро-азиатской семье, дравиды — дравидскими, представляющими обособленную группу, а бхилы — индо-арипскими диалектами, входящими в индоевропейскую семью языков, — сходство этнических типов, образа жизни и многих поверий всех этих народов позволяет предполагать доисторическую общность их происхождения. Наиболее вероятно, древнейшую группу представляли здесь мунда, значительная часть которых еще в древности подверглась глубокому влиянию дравидов, ныне населяющих Южную Индию, а позднее — арийцев, пришедших в Северную Индию с северо-запада примерно за полторы тысячи лет до нашей эры и вскоре частично подчинивших себе коренное местное население, с которым они впоследствии смешались, а частично оттеснивших его из плодородных долин Инда и Ганга, главным образом к югу.
Достоверных свидетельств о ранней истории местных народов до нас не дошло. Упоминания о лесных племенах в древнеиндийском эпосе отрывочны и по большей части фантастичны. Каких-либо собственных исторических памятников древности у этих народов не сохранилось. Объектом внешнего изучения и описания они становятся лишь в ходе последних двух-трех столетий. Какие-то сведения о средневековом периоде, да и то весьма фрагментарные, имеются только касательно гондов. Ранняя же история этих народов может в той или иной мере быть восстановлена главным образом на основании внутренних данных — фольклора, религиозных систем и языковых реконструкций, но и этот материал на современном этапе его изучения не дает достаточно полной картины. Наконец, о некоторых процессах, действовавших в прошлом, удается судить по тем социальным переменам, которые наблюдаются в настоящем.
В частности, настоящее помогает понять, как малые народы перемешивались в многоплеменном и многоязычном индийском котле. Переписи населения, проводимые в Индии с конца прошлого века через каждые десять лет, показывают неуклонную ассимиляцию малых лесных народностей окружающим индоарийским населением. Это выражается как в изменении их образа жизни — переходе от охоты и собирательства к земледелию, распаде замкнутых племенных группировок и перестройке общества по кастово-классовому принципу, так и в распространении двуязычия, ведущего в ряде случаев к отказу от родного языка. Согласно последней переписи (1961 г.), лишь половина гондов — крупнейшего из дравидских народов Центральной Индии — сохранила родной язык гонди. Остальные пользуются ныне диалектами либо хинди, либо маратхского. Но и среди говорящих на гонди почти половина (45%) двуязычны — наряду с родным азыком они используют упомянутые выше диалекты. Санталы крупнейшая народность группы мунда, правда, в подавляющем большинстве сохраняют родной язык, но и у них весьма высок процент двуязычия: больше трети санталов говорит наряду с сантальским на диалектах бенгальского, а также хинди и ория. Вполне вероятно, что бхилы являют нам конечный результат такого процесса, завершившегося полным переходом народности на язык экономически и политически более сильных соседей (с точки зрения лингвистической классификации современный бхили может рассматриваться как группа диалектов соседствующего с ним индоаринского языка — гуджаратекого).
Как у дравидских народностей Центральной Индии, так и у народностей мунда существует немало поэтичных легенд, излагающих происхождение того или иного племени, причем начинают они обычно с самого сотворения мира. Вот как выглядит подобная легенда у гондов в изложении, опирающемся на запись, которая была сделана свыше ста лет тому назад миссионером С. Хислопом и с тех пор неоднократно использовалась исследователями Центральной Индии.
«...Сначала повсюду была вода, и Всевышний родился из лотоса, и жил он один. Раз потер он себе руку и из грязи, что стерлась, сотворил ворону, которая уселась к нему на плечо. Он сотворил еще краба и пустил его в воду. Потом он повелел вороне облететь мир и принести ему земли. Долго летала ворона, но земли не нашла; увидела она только краба, который торчал из воды, опираясь ногой о дно морское. Ворона сильно устала, она и села на спину крабу. А спина у того была мягкая, и на ней от вороньих когтей остались отметины — их и теперь у любого краба увидишь. Спросила ворона у краба, где бы ей земли отыскать. Краб сказал, что он нашел бы земли, если бы господь сделал его тело твердым. Всевышний согласился сделать твердым кусок его тела — с той-то поры у крабов и появился на спине панцирь. Краб нырнул на дно, нашел Кен-чуа — земляного червя, схватил его клешней и принес. А отметку от крабьей клешни носят все черви и нынче. Червь выплюнул щепотку земли, краб отдал ее Всевышнему, и Всевышний рассеял землю по морю, и выросла на море суша. Спустился Всевышний на землю, и из нарыва у него на руке вышли Махадео и Парвати.
Начал Махадео мочиться, и из мочи его пошли расти всякие овощи. Поела их Парвати и понесла. Родилось у нее восемнадцать кругов брахманских богов и двенадцать кругов гондских богов. А по всему лесу развелись гонды. Все заполонили они: и лес, и долины, и горы — под каждым деревом прятался гонд. И все живое, что попадалось им на глаза, они убивали и пожирали. Всех они убивали и ели — будь то шакал, или олень, или лань. Все им шло за одно: и свинья, и перепелка, и голубь, и ворона, и коршун, и гриф, и лягушка, и ящерица, и жук, и корова, и теленок, и буйвол, и буйволица, и крыса, и белка — всех они были готовы убить и сожрать. Вот что делали гонды. Поедали они все сырое, незрелое; по полгода не мылись, валялись в грязи и навозе. Вот какие были те гонды. Вонь пошла от них по всем джунглям, и стал гневаться на них Махадео. «Плохая эти гонды порода, не стану я их беречь», — сказал он и задумал их извести.
Созвал он к себе гондов и, когда они все собрались, сотворил из грязи со своего тела белку и пустил ее в их круг. Все гонды бросились на нее — каждый хотел ее схватить и сожрать. Белка вырвалась из кольца и бежать, а гонды за ней. И завела она их в Железную пещеру на Красной горе. Тут Махадео взял да и завалил устье пещеры огромным камнем и запер там всех гондов. Только четверо остались снаружи. Они убежали и спрятались на Красной горе. Тем временем чует Парвати, не стало больше гондского духа, что был ей так мил. Принялась она творить пост и молитву, чтобы вернуть их обратно. Шесть месяцев она так постилась, и нарушило это покой Всевышнего. Он послал Нараяна — солнце — посмотреть, кто там постится. Нараян пришел, увидел Парвати и спросил, чего она хочет. Она отвечала, что осталась без своих гондов и желает вернуть их обратно. Нараян доложил о том Всевышнему, и он обещал их вернуть ей.
А в горах Дхавалгири рос на дереве желтый цветок. Всевышний послал гром и молнию, и цветок зачал. Сперва из него выпал на землю ворох шафрана. Утром, когда взошло солнце, цветок открылся, и из него вышел Линго. На пупке у Линго сверкал алмаз, а на лбу был сандаловый знак. Он упал из цветка прямо на шафран. Он играл в нем, а спал в гамаке. Стало ему девять лет, и он увидел, что нет вокруг ему подобных, и решил их искать. Влез на высокую гору и увидел вдали четырех гондов у Железной пещеры. Он пошел к ним. Они увидали, что он такой же, как и они, и приняли его словно брата. Ели они только мясо. Линго их попросил поймать ему такого зверя, у которого нету печенки. Они обыскали весь лес и ничего похожего не нашли. Тогда Линго научил их срубить лес и выжечь поле. Стали они рубить деревья, да руки натрудили до пузырей и остановились. Всего два дерева и срубили. Линго сам взял топор, срубил много деревьев, потом сжег их, и открылась черная земля. Линго обнес поле забором и сделал калитку. Пошел дождь и не прекращался три дня. Вода в ручьях и реках поднялась до берегов, а поле зазеленело рисом.
Дальше говорится о том, что на поле пришло стадо нильгаев — синих антилоп — и потравило весь рис. Линго выследил нильгаев и вместе с братьями всех их пострелял из луков. Потом стал учить братьев разводить огонь и жарить мясо. Высечь огонь кремнем братья не сумели. Пришлось идти за огнем к костру, который разжег великан людоед Рикад Гавади. Братья долго отговаривались, пока наконец младший не решился пойти. Линго пустил из лука стрелу, и она понеслась вдоль земли, валя деревья и срезая траву, и проложила прямую дорогу к самому полю великана. Подкрался по ней младший из гондов к костру, увидел, что великан спит, схватил головешку и пустился бежать, да второпях обронил искру на великана. Тот проснулся и кинулся в погоню — хотел похитителя изловить и съесть. Тот еле ноги унес, а головешку прочь бросил.
Братья-гонды перепугались, и никто из них не решался попытать счастья снова. Пришлось идти за огнем самому Линго. По дороге Линго взял тыкву, вставил в нее бамбуковую палку, натянул два собственных волоса — и вышла скрипка. Подошел он к костру, где спал великан, забрался на вершину высокого дерева и принялся играть на скрипке. Так сладко запела скрипка, что все вокруг застыло в молчании. Проснулся старик великан и заслушался. Стал он смотреть, кто же это поет, и никого не увидел, а тем временем ноги сами понесли его в пляс. Той порой рассвело. Вышла из дому старуха — жена великана — и тоже услышала дивную музыку. Пошла она к полю, увидела, как ее старик пляшет, и сама в пляс пустилась. Тут Линго открылся им, и великан принял его как родного, стал звать племянником и предложил ему своих семь дочек в жены. Линго сам жениться не стал, но согласился взять их для своих братьев. Каждому дал он по две жены, только младшему досталась одна. Братья в благодарность решили принести ему из лесу плодов и дичи, и Линго остался один с их семью женами — те качали его в гамаке. Только начали у него глаза слепляться дремотой, жены братьев вздумали с ним заигрывать. Он встрепенулся, стал совестить их, называл сестрами и матерями, а они все свое. Увидел Линго — лежит длинный пест, чем рис в ступе толкут, схватил его и отлупил их хорошенько. Заплакали они, разбрелись по своим хижинами и задумали отплатить Линго. Вот, как братья вернулись из леса, они и нажаловались, что Линго хотел их всех обольстить и обесчестить, и сказали, что жить рядом с таким они не согласны. Братья поверили и в гневе решили убить Линго. Зазвали они его в лес — будто помочь им крупного зверя загнать, там осыпали его стрелами, и он упал мертвым. А они еще у него глаза вырвали и принялись ими друг в друга кидаться.
Не услышал Всевышний обычной молитвы, которую Линго ему возносил, и послал свою ворону разузнать, не приключилось ли с ним чего. Вернулась ворона и доложила, что Линго умер. Тогда Всевышний опять послал ее на землю с живой водой. Спрыснула ею ворона мертвое тело, и Линго ожил.
Теперь Линго решил отыскать тех гондов, которые, как четверо братьев ему говорили, были заперты где-то в пещере. Он шел через горы, продирался сквозь чащу лесную, пока не настала ночь и землю не окутала тьма. Тогда он взобрался на высокое дерево. Внизу рычали дикие зверки и лаяли шакалы, а Линго все думал о своих братьях-гондах, томящихся в заточенье. Между тем взошла луна, залила лес своим молочным светом, и Линго пришло на ум спросить у нее, не видала ли она, где его гонды Да только луна ему ничего не сказала — она не знала сама. Замерцали на небе звезды. Линго спросил их о том же и тоже ничего не узнал. Настало утро, звезды поблекли, поднялось ослепительное солнце и озарило всю землю. Стал его спрашивать Линго, но и солнце не видело гондов. Вот и пустился Линго опять через лес. Шел он, пока не пришел к пещере отшельника, мудрого старца, знающего волшебство. Спросил его Линго про гондов и тут только узнал, где заточил глупых прожорливых гондов великий бог Махадео.
Стал тогда Линго совершать подвиги воздержания. Возлег он на терния и стал поститься. Постился он целый год и ослаб так, что не только рукой или ногой шевельнуть, даже веки поднять сил у него не осталось. Мясо на его теле иссохло, и кости проступили наружу сквозь кожу. Так велик был его подвиг, что зашатался сам трон Махадео. Встал Махадео, спустился со своей горы Дхавалгири и пошел по земле — посмотреть, кто там так подвижничает. Увидел он Линго на ложе из терний и спросил, чего он хочет. Тут Линго и потребовал освободить пленных гондов. Предлагал ему Махадео взамен что угодно — и богатство, и земли, и славу, да Линго не согласился. Тогда Махадео поставил ему условием такую задачу: пойти на берег моря и принести оттуда птенцов громадной птицы Биндо.
Линго пришел на берег моря, нашел гнездо с птенцами, но самих птиц-родителей не было в нем — они улетели в леса охотиться на слонов, потому что птенцов они выкармливали слоновьими мозгами. Показалось ему нехорошо взять птенцов тайком, по-воровски, без родителей, и он, ожидая возвращения птиц, прилег на песок и задремал. Тем временем из воды вышла громадная морская змея и полезла в гнездо за птенцом. Она и до того не раз приходила и успела семерых птенцов утащить. Услыхал ее Линго, вскочил, наложил стрелу на тетиву и пригвоздил чудовище к земле. Потом разрубил змею на семь кусков и бросил их в море, только голову оставил валяться под гнездом, а сам снова лег и заснул. Прилетели птицы Биндо, принесли птенцам мозги слонов и верблюдов, а те есть не хотят, говорят: «Отдайте их Линго. Он убил змею, чудище морское, спас нас от неминуемой гибели». Стали птицы спрашивать Линго, чем бы им его наградить, а он от всего отказывается, просит только птенцов — отнести их к Махадео. Приуныли сперва птицы Биндо, потом согласились, посадили его и птенцов на свои широкие крылья и через полдня принесли их на гору Дхавалгири ко вратам Махадео, а пути туда было от моря пешему на полгода.
Увидал Махадео Линго и птиц — нечего делать, пришлось ему выпустить гондов.
«Ну и досталось тут нам, батюшка Линго, — говорят гонды. — В этой грязной дыре ничего не нашлось нам в рот положить». Вывел их Линго к реке, водой напоил и накормил рисом и просяными лепешками.
Потом Линго увел гондов в леса, там они заложили город, и стал этот город процветать и расти. Линго разделил гондов на кланы, а самого старого сделал пардханом — жрецом, и закон такой положил, чтобы в клане своем не жениться, и научил, как праздновать свадьбу. Сотворил он и гондских богов и велел гондам приносить им жертву вином и скотом и плясать перед ними. А когда все это было сделано, сам Линго ушел от людей и стал богом».
И действительно, имя Линго у гондов окружено ореолом божественной святости. Но легенда не только показывает истоки происхождения одного из специфических гондских культов; она дает достаточно яркое представление о синкретизме гондской религии, включившей в себя элементы, заимствованные из индуизма. Вместе с тем здесь нашел отражение целый ряд традиционных фольклорных мотивов, со многими из которых читателю предстоит встретиться в сказках данного сборника. С другой стороны, легенда практически не дает сведений, касающихся реальной истории гондской народности. Даже локализовать сколько-нибудь удовлетворительно место действия оказывается невозможно. Если, например, отнести Дхавалгири — Белую гору — к Гималайской горной области, что можно сделать, опираясь на общеиндийскую традицию помещать обитель Шивы (он же Махадео) именно в этом районе, то и это не поможет выяснить дислокацию интересующего нас в первую очередь места земного действия — района Красной горы, т. е. предполагаемой родины гондов. Слишком неявно выражена связь между обеими точками. То же касается и хронологии. Несомненно одно — легенда в ее нынешнем виде сложилась не ранее первого тысячелетия нашей эры, поскольку в ней явственно отражены пуранические концепции.
Первые проблески в завесе тьмы, окутывающей раннюю историю интересующих нас районов Центральной Индии, появляются около VI—VII вв. н. э. Известно, что в эту пору в Центральной Индии установилось господство раджпутских династий. Они властвовали здесь, пока в XII В. не пали под ударами более сильных соседей. В частности, Мандла (на северо-востоке) была завоевана властителем княжества Рева, находившегося южнее нынешнего Аллахабада. Впоследствии большая часть области подпала под власть гондских династий. В средневековых индомусульманских исторических хрониках эти районы так и стали известны под общим наименованием Гондваны — страны гондов. Среди наиболее сильных и продержавшихся дольше других здесь могут быть названы династии, правившие в Гарха-Мандле, Деогархе и Чанде. Воинские доблести и ратные подвиги гондских раджей воспевались профессиональными гондскимн бардами-пардхапами. К числу героических баллад подобного рода относятся помещенные в предлагаемом сборнике сказания о Лохабандхе (№46) и Сингхисурве (№ 47). Как видно из этих примеров, конкретного исторического материала подобные произведения не содержат. Исторически недостоверны и родословные гондских династий, включающие в себя явно легендарные факты. К тому же и те и другие в течение ряда веков передавались только изустно. Наиболее надежными оказываются те скудные сведения, которые можно почерпнуть из хроник могольских историков.
Власть гондских раджей просуществовала до середины XVIII в., когда в Центральную Индию вторглись маратхи. Это ускорило начавшуюся уже много раньше колонизацию Центральной Индии индоарийцами — раджпутами и маратхами с запада и хиндиязычными группами с востока. Местное гондское население частью осталось на равнинных участках. Смешавшись с пришельцами, оно перешло к культурному земледелию и в качестве одного из составных компонентов включилось в кастово-профессиональную структуру индуистского сельского общества. Другая его часть, сохраняя прежнюю племенную организацию и традиционный способ хозяйства, отошла в менее доступные лесные районы с сильно рассеченным рельефом. Немногим больше ста лет тому назад, в 1853 г., когда Центральная Индия перешла под контроль британской колониальной администрации, такая солидная английская востоковедная организация, как Королевское Азиатское общество, к тому времени весьма активно занимавшаяся изучением Индии, констатировала, что нагорья и джунгли Гондваны представляют собой обширные совершенно не исследованные пространства и выглядят на ее картах сплошным белым пятном. И совсем уже в недавнее время, в отчете о переписи 1931 г., указывалось, что ряд районов Центральной Индии, в первую очередь таких, как покрытая густыми лесами Мандла на севере или удаленный и труднодоступный Бастар на юге, остается основным местом расселения коренных и некоторых смешанных народностей и племен, сохранивших в своем образе жизни и организации общества максимум первобытных черт. А большинство гондских (включая сюда и родственные гондам племена и народности) сказок, вошедших в наш сборник, было собрано как раз в Бастаре и Мандле.
Иначе освещают происхождение своего племени санталы. Согласно их преданиям, родоначальниками санталов были муж и жена Пильчу-харам и Пильчу-бурхи, вышедшие из двух яиц, снесенных диким гусем. От их детей пошло семь основных сантальских родов, к которым впоследствии прибавилось еще пять. Своей прародиной санталы называют Хихири (Ахири) Пипири, что некоторыми исследователями идентифицируется с районом Ахури, расположенным на плато Хазарибаг, юго-западная оконечность которого заходит на территорию современного штата Мадхья Прадеш. В легендах рассказывается о странствованиях племени, о том, как сантальские «раджи» (очевидно, племенные вожди) обратились в индуизм и стали вести себя «по-раджпутски» и как в результате племя, сохранившее верность прежней религии, оставило их править индусами, а само ушло на возвышенность Раджмахал, туда, где Ганг, огибая ее, резко меняет направление своего течения с восточного на южное. Эта местность — нынешний округ Сантал Паргана и прилегающие к нему районы — поныне служит основным центром расселения санталов.
Как и в случае с гондами, сантальские легенды дают мало достоверного материала для того, чтобы определить истинную родину этой народности. На основании одних и тех же свидетельств различные исследователи делают прямо противоположные заключения о первоначальных путях их движения. Ясно, однако, что еще в позднем средневековье сантальские племена занимали в основном районы, лежащие западнее современной территории их расселения, в частности нынешний округ Хазарибаг, откуда их постепенно вытесняли волны хинди- и бихариязычного земледельческого населения, мигрировавшего на юг из перенаселенной Пригангокой низменности. Общее направление движения санталов, ведших в связи с их традиционным способом подсечного земледелия полукочевой образ жизни, в течение нескольких последних веков было северо-восточным. Об этом, кроме всего прочего, убедительно говорит та важная роль, которую в обрядовой системе санталов играет река Дамодар, почитаемая ими священной.
Вся жизнь как гондов, так и санталов первоначально была связана с лесом: охота и сбор дикорастущих плодов и кореньев, а впоследствии вдобавок к этому и подсечно-огневое земледелие в течение многих веков служили им основным источником пропитания. Лес снабжал их всем необходимым в их незамысловатом быту. Хотя в ходе последних столетий образ жизни этих народностей существенно изменялся — особенно сильное влияние оказывало на них помимо все более тесных связей с индуистским кастовым обществом оскудение лесов, повлекшее за собой почти повсеместный переход к пашенному земледелию, специфические черты быта и мировоззрения, возникшие в ходе длительного существования среди девственных лесов, у них во многом еще сохранились. Эти черты, отличающие санталов и гондов от масс земледельческого индоарийского населения, заметно сближают тех и других, несмотря на многие частные расхождения.
Так, если сантальское общество конца прошлого века выглядит достаточно однородным как в этническом, так и в социальном отношении, хотя и здесь классовое расслоение уже дает себя знать, то национальный комплекс, определяемый общим названием «гонды», далеко не столь целостен. Здесь различаются отдельные этнические локальные группы, среди которых особый интерес для нас в связи с приводимыми ниже сказками представляют населяющие Бастар марии и мурии. Выделимы и сословно-профессиональные группировки, статус которых в гондской общине в некоторых чертах напоминает позицию каст у индуистов. Таковы, в частности, агарии — лесные кузнецы и кустари-металлурги, умеющие плавить железо, и пардханы — гондскпе барды и жрецы, нередко занимавшие должности первых советников у гондских раджей. Любопытно, однако, что традиционный социальный статус последних ниже, чем у обычных гондов: пардхан принимает пищу из рук гонда, но гонд не возьмет ее у пард-хана. Тесно смыкаются с гондами близкие им и по этническому типу и по языку малые народности: байга, курук, дханвар, дхоба, пандо и др. Уровень общественного развития у разных групп и племен неодинаков. Наиболее отчетливо родо-племенные отношения проявляются у байга, муриев и мариев. Но и образ жизни собственно гондов разнится в зависимости от местных условий и окружения. В небольших деревушках, разбросанных среди гор и лесов, обычно прослеживаются те или иные черты племенной организации. Равнинные гонды, проживающие в смешанных поселениях бок о бок с индуистами, утрачивают этнические черты и встают в один ряд с низкокастовыми индусскими профессиональными группировками или выступают в роли внекастового элемента индусского общества. То же можно сказать и о санталах: в маленьких, затерянных в глуши деревушках племенные обычаи и традиционный бытовой уклад сохранились в большей степени, чем в окруженных полями больших поселениях, жизнь в которых перестраивается по образцу обычной индуистской деревни.
Место для деревни выбирается недалеко от воды — речки или пруда, но достаточно высоко, чтобы ей не грозило затопление в пору муссонных дождей. Маленькие лесные деревушки состоят из какого-нибудь пятка или десятка хижин, в больших деревнях число домов, тянущихся вдоль единственной улицы, достигает многих десятков и даже сотен. Дома строятся из местного материала. На безлесной равнине они обычно саманные, а у немногих состоятельных жителей могут быть каменными или кирпичными. Но у санталов и гондов, чья связь с лесами еще не утрачена, дома сооружаются из дерева. Конструкция их большей частью весьма несложная. Ставятся четыре столба по углам — на них держится стропильное строение крыши, которую кроют тростником, изредка, у богатеев, — черепицей. Стены плетутся из сучьев или из полос расщепленного бамбука. Окон в них нет — свет проникает в дом через дверь и через щель, оставляемую под самой крышей. Иногда стены обмазываются глиной, но нередко они оставляются и без обмазки. Дверной проем невелик. Он может закрываться легкой, плетенной из древесных ветвей или бамбуковых планок дверцей, приставной или подвешенной на веревочных петлях. Пол — земляной или глинобитный. Прямо в полу, в углублении, обмазанном глиной и снабженном глиняными же выступающими краями, на которых держатся горшки над огнем, устраивается очаг. Иногда очаг целиком лепится из глины. В этом случае он имеет форму прямоугольного ящика. Отверстие в торце служит топкой, на верхней стенке — ряд отверстий-конфорок с выступами по краям. Числом таких конфорок определяется величина очага. Чаще всего их две: на одной варится основное блюдо — рис или просяная каша; вторая нужна, чтобы одновременно готовить приправу из овощей или бобовых, а при случае и из мяса. Комната в таком доме обычно только одна — это и кухня, и столовая, и спальня для холодного времени года. Меблировка в высшей степени скромная — она состоит из одной или нескольких кроватей. Такая кровать представляет собой прямоугольную раму с веревочной сеткой, укрепленную на четырех простых ножках. Иногда к этому добавляются «стулья» — плоские куски дерева толщиной в 15—20 см или невысокие табуреты с сиденьем из веревочной сетки. Гонды часто не имеют и такой мебели — они спят и сидят на травяных циновках.
Кроме жилой комнаты у гондов и у санталов нередко выделяется небольшое добавочное помещение, которое служит божницей, или молельней. У гондов это пенкхоли — пристройка снаружи, имеющая отдельный вход; у санталов — отгороженный внутренний угол, именуемый бхитар. Там хранятся домашние боги, там приносятся жертвы богам и духам предков Божница строго охраняется от непосвященных, и допускаются в нее обычно только мужчины.
При минимальном достатке хозяин сооружает вдоль одной или нескольких стен дома веранду — невысокую террасу, над которой нависает скат крыши, опирающийся по наружному краю на ряд столбиков. Здесь принимают посетителей, устраивают на ночь гостей, да и сами хозяева спят в жаркую пору. У землепашцев, которые обрабатывают свое поле с помощью воловьей упряжки и вдобавок к этому держат коров или буйволиц, на усадьбе стоит еще хлев. Он строится так же, как дом, но плетеные стены не имеют обмазки; передняя стена обычно отсутствует, нередко нет и боковых, а простейший вид хлева — это навес на четырех столбах. Кроме коровника во дворе может быть и овчарня — строение того же типа, в котором держат коз и овец. В состоятельных хозяйствах службы ставятся впритык к дому, замыкая с трех сторон внутренний дворик, используемый для хозяйственных нужд. Хлев может быть и удален от дома, находясь на противоположном конце небольшого двора, обнесенного плетнем. Народ победнее, особенно те, у кого крупного скота не имеется, обходятся вообще без хлевов — мелкий скот (коз, свиней) и домашнюю птицу они держат у себя в доме. За домом может лежать огород, используемый под овощи или кукурузу. Это самый плодородный участок земли у крестьянина, так как он постоянно удобряется естественными отходами хозяйства. Основное же поле обычно расположено в некотором удалении от деревни, иногда довольно значительном, поскольку выбор его диктуется местным рельефом.
До самого недавнего времени в жизни сельского населения Индии господствовали принципы натурального хозяйства. Это особенно относится к отсталым районам. Деревня здесь сама себя обеспечивает всем необходимым в быту. Землепашцы растят зерно, масличные, овощи, хлопок. В тех местах, о которых речь идет в сказках, львиную долю урожая составляет рис — под него отводится больше половины посевных площадей. За рисом следуют разные сорта проса, преобладает среди них баджра — неприхотливое «колючее просо». Гонды и санталы обычно обходятся без распространенного в Индии искусственного орошения. Санталы широко практикуют террасное рисосеяние, и есть мнение, что именно народы мунда принесли в Индию этот вид земледелия. Рис высевается с началом муссона, в июне — июле, на тех участках, где хватает естественного увлажнения; участки посуше отводятся под просо. Летне-осенний урожай собирается в ноябре — декабре. В сухой зимне-весенний сезон поля засеваются масличными, хлопком и бобовыми, представленными в Индии огромным числом сортов гороха и чечевицы; они идут на приготовление самой распространенной приправы к рису. Пока земледелец трудится в поле, пастухи-ахиры, состоящие на службе у деревни, а то и просто деревенские ребятишки пасут в зарослях коров и буйволиц, коз и овец.
Продукты земледелия и скотоводства обрабатываются на месте. Деревенские ткачи ткут суровые ткани, а красильщики красят их растительными пигментами, добываемыми ими самими на лугах и в лесах. Золотых дел мастера изготовляют золотые и серебряные украшения для тех немногих, кому они по карману; шире спрос на продукцию специалиста по дешевым стеклянным браслетам, столь популярным у женщин. Сапожиик-чамар тачает обувь, правда, желающих носить ее здесь немного: ортодоксальные индусы высокой касты избегают соприкосновения с кожаными изделиями и предпочитают деревянные сандалии, а большинству других они недоступны — те ходят всю жизнь босиком. Маслоделы-тели на своих неуклюжих деревянных масличных прессах, приводимых в движение парой быков, жмут масло из горчичного, хлопкового или кунжутного семени — это масло идет на приготовление пищи, на умащение кожи, а у тех, кто посостоятельней, на освещение — его жгут в лампах-плошках. Винокуры-калары гонят вино из цветов дерева махуа и снабжают им к праздникам свою округу. Помимо того в домах варят пиво из рисового зерна или из проса. Плотники и кузнецы поставляют соседям незамысловатый земледельческий инвентарь — сохи, мотыги, серпы, топоры; изготовляют двери к домам и тяжелые телеги на двух высоченных колесах, которые потом скрипят по дорогам, влекомые медлительными волами. Правда, у гондов и санталов не часто встретишь телегу — в тех местах, которые они населяют, до недавнего времени проезжих дорог почти не было. Горшечник-кумхар лепит горшки и кувшины, прессует кирпич и черепицу из глины, добываемой им под обрывом у ближней речки или ручья. Могут быть тут и корзинщики, и мастера, которые вьют веревки, и медники, изготовляющие металлическую посуду для состоятельных индусов из высших каст, и сукновалы, поставляющие крестьянам грубошерстные одеяла, и многие другие. Для разного рода услуг тоже есть свои профессионалы, состоящие обычно на содержании у деревни: метельщики, стражники, брадобреи, музыканты, знахари, прорицатели и всякие прочие.
Конечно, далеко не в каждой деревне представлены все эти профессии. Чем меньше деревня, чем дальше она затерялась в лесах, тем слабее в ней ощущается разделение труда, достигая минимума в чисто сантальских или гондских селениях, где еще сохранились четкие следы племенной организации общества. Жителям маленьких деревушек приходят на помощь базар и странствующие торговцы.
Базарные деревни, по роли своей соответствующие дореволюционным русским ярмарочным селам, и поныне служат в сельской Индии центрами местной экономической жизни. К этим сравнительно большим деревням, отстоящим в Центральной Индии одна от другой километров на десять-двадцать, тяготеют мелкие окрестные поселения. Там ведь не только много разных ремесленников, там и лавочник, и ростовщик, он же меняла. Хотя объем торговли на обычном деревенском базаре в денежном выражении оказывается на удивление невелик, всегда найдется желающий разменять серебряную монету на медь, уплатив за размен какую-то долю. А при скудости наличных средств в сельском доме заем под будущий урожай — обычное дело. Это туда в базарные дни, которые бывают раз или два на неделе, отправляются избыток натуральных продуктов и ремесленные изделия, не находящие спроса на месте, и там же приобретается то, чего нельзя достать или изготовить у себя дома. В базарный день мелкие деревушки выглядят вымершими — весь народ из округи, от мала до велика, тянется на базар. Прежде вся торговля велась под открытым небом, только в последние десятилетия стали появляться рынки знакомого нам типа — с прилавками, с навесами, защищающими от дождя и палящего солнца, и, естественно, с платой за место. Продавцы, скрестив ноги, усаживаются прямо на землю и раскладывают перед собой свой незамысловатый, но незаменимый в деревенском обиходе товар. Тут сидят огородники с тыквами, луком и всякой зеленью. Там — бакалейщики; они торгуют солью, разными пряностями, без которых не обходится индийская кухня, и куркумой. Последняя и в пищу идет, и служит лекарством, и дает желтую краску, столь важную принадлежность свадебного обряда. Маслоделы продают ароматное постное масло, ткачи — домотканые сари и дхоти. Мастера украшений торгуют кто стеклянными запястьями, кто дутыми браслетами из дешевого серебра, которые носят не только на руках, но и на щиколотках, кто серьгами для ушей и для носа, кто резными гребнями, кто маленькими кустарными зеркальцами. Найдутся тут и пестрые туфли с загнутыми носами, изделие местных кожевников, и табак, и бетель, и тележные колеса, и резные двери, и кнуты, и ремни, и веревки — все, что производит округа. Нередко крестьянин приносит с собой корзинку зерна — распродать в розницу, а на выручку совершить свои скромные покупки — денег-то в доме не водится. На большие базары пригоняют и скот, старый и молодой. Здесь можно купить и рабочих волов, и молочную корову, и телку, и коз, и овец — хочешь в стадо, хочешь на убой, потому что санталы и гонды в отличие от ортодоксальных индуистов не накладывают ограничений на потребление мяса. Порой на базар приезжают скупщики зерна и разных других сельских продуктов, например топленого масла, для вывоза их в города, а то и в другие районы страны.
Идут на базар не только затем, чтобы что-то купить или продать, но и просто развлечься — людей посмотреть и себя показать. Тут можно встретить родню и знакомых, узнать местные новости, посудачить о соседях и соседках. Особенно тянет на базар женщин — они идут туда толпами, разодевшись получше, навесив все свои украшения. И вправду, если не считать свадеб и праздников, еженедельный базар — главное, что вносит какое-то разнообразие в монотонный ход сельской жизни.
Детализованное разделение труда, подобное описанному выше, присуще в первую очередь равнинной деревне с преобладающим индуистским населением. Профессионализация здесь основывается на кастовом делении общества, сохранявшемся в полной мере до завоевания Индией независимости. Социальный статус той или иной группы лиц определяется не столько материальным достатком, сколько профессиональным занятием, которое является наследственным и принадлежит человеку от рождения. Таким образом, и материальный достаток, если не считать возможности большего или меньшего преуспеяния той или иной индивидуальности в своей профессионально-кастовой группе, в значительной мере обусловлен рождением. Статус касты в обществе определяется уровнем ее социальной коммуникабельности, т. е. традиционно допустимой степенью свободы общения данной социальной группировки с окружающими ее группами населения. Практическим эталоном обычно служит уровень отношений данной группы с брахманами — высшей кастой индуистского общества. Здесь выделяются пять основных градаций. Первую, высшую, ступень занимают «благородные» касты — потомки трех «чистых» древнеиндийских сословий, или варн: жреческого (брахманов), воинского (кшатриев) и торгово-земледельческого (вайшьев). В наших сказках эту группу наряду с брахманами представляют, в частности, раджпуты, возводящие свой род к древним воителям-царям, и торговцы — бании. Общение между членами этих каст не подвергается сколько-нибудь серьезным ограничениям.
На следующей ступени стоит группа земледельческих каст, также признаваемых «чистыми». Свидетельством этому служит тот факт, что брахманы могут принимать воду из рук их членов. Сюда входят, например, курми, лодхи, пастухи — ахиры и занимающиеся цветоводством и огородничеством мали. Именно эти касты, чаще какая-нибудь одна из них, и составляют основное население деревни, владеющее на общинных началах землей. Наряду с ними во вторую группу входят ремесленники высшего ранга, такие, как сонар — золотых дел мастер, тамера—медник, бархаи — плотник, халваи — кондитер и пр.
Третья ступень принадлежит группе каст, не обладающих той ритуальной чистотой, которая отличает упомянутых ранее, но и не оскверняющих своим прикосновением. Поэтому их представители допускаются в деревенские храмы. Тем не менее из их рук брахман воды уже не возьмет. Исключение в этом смысле делается, по соображениям практического удобства, только для некоторых категорий слуг, таких, например, как водоносы. Ядро этой группы составляют обслуживающие касты, чей более низкий по сравнению с земледельцами статус обусловлен, в частности, тем, что первоначально они экономически полностью зависели от общины, состоя у нее на содержании, которое выплачивалось им в виде небольшой доли с урожая. Помимо таких каст, как водоносы — дхимары, прачки — дхоби, носильщики паланкинов — кахары, цирюльники — наи, горшечники — кумхары, кузнецы — лохары, маслоделы — тели, винокуры — калары и им подобные, сюда входит целый ряд каст, члены которых несут обязанности деревенских стражников, а также касты странствующих подвижников, кормящихся подаянием, и деревенских жрецов низшего ранга, исполняющих повседневные ритуальные обряды, связанные со свадьбами, наречением имени, началом основных сельскохозяйственных работ и т. п.
Четвертую ступень занимают представители неарийских народностей. Сюда входят санталы, гонды и родственные им этнические группы, которые были перечислены выше. Строго говоря, в той мере, в какой они сохраняют традиционную племенную организацию и отказываются исповедовать индуизм с его строгими ограничениями в потреблении мяса и признанием безусловного социального приоритета брахманства, они стоят вне индуистского общества. Вместе с тем история показывает, что в ходе обращения в индуизм представители этих народностей занимают различные ступени описываемой здесь социальной лестницы. Влиятельные племенные вожди, известные под именем гондских и сантальских раджей, вошли в высшую группу. Ко второй группе в качестве отдельных каст присоединились те немногие родо-племенные объединения, которым удалось сохранить право собственности на принадлежавшие им ранее земли. Однако большинство малых народностей и племен лишилось своих земель и вошло в круг каст, выполняющих служебные функции, заняв, таким образом, место на третьей ступени, а еще чаще на низшей — пятой, о которой речь пойдет ниже. Таким образом, на четвертой ступени стоят те представители национальных меньшинств, которые еще не адсорбировались индуистским большинством и живут обособленно собственными поселениями преимущественно среди холмов и лесов, занимаясь охотой и обрабатывая оставшиеся в их владении земли. Видимо, именно владение землей ставит их, несмотря на недопустимую, с ортодоксально-индуистской точки зрения, неразборчивость в пище, выше низших каст индуистов — неприкасаемых.
Последние и занимают пятую, низшую, ступень социальной лестницы. Сюда входят ремесленники и наемные слуги, по роду своей деятельности связанные с ритуально-нечистыми субстанциями — телами павших животных, особенно их шкурой, и всякого рода отбросами. Это кожевники — чамары, разного рода танцоры и музыканты (они играют на барабанах, обтянутых кожей), метельщики и уборщики мусора. К этой группе относятся также ткачи, выделывающие грубые ткани, и корзинщики, изготовляющие разного рода плетеные изделия из тростника и бамбука. Помимо исполнения своих профессиональных занятий все они обычно нанимаются на поденные сельскохозяйственные работы к состоятельным земледельцам. Это самая бесправная и обездоленная группа населения, подвергающаяся наиболее безжалостной эксплуатации. Ритуальная нечистота (например, для брахмана всякое соприкосновение с ними считается оскверняющим: не только телесное касание, но даже падение на него тени от неприкасаемого заставляет брахмана совершать омовение и подвергать стирке одежду) ограничивает их контакты с более высокими слоями деревенского населения исключительно деловыми, профессиональными отношениями. Им не разрешается посещать деревенский храм и ходить за водой к общественному колодцу — они роют себе отдельный. Если же колодец в деревне один, неприкасаемым разрешается подходить к нему только с определенной стороны — при обычном для индийских колодцев диаметре в несколько метров выделить им какой-то участок его борта несложно. Часто и жить им приходится в стороне от самой деревни, на выселках, представляющих собой кучку жалких хижин.
Такова самая общая схема социальных отношений в индуистской деревне. В зависимости от местности она может в тех или иных деталях меняться. Поскольку в реальной структуре общества нет четко выраженных граней между выделенными выше ступенями, его схему можно представить себе не только как лестницу, но и в виде сплошной наклонной плоскости — статус тех или иных каст колеблется соответственно локальным условиям. Однако такие колебания заходят не дальше соседней ступени.
Социальная структура чисто гондской или сантальской деревни значительно проще. Все члены общины здесь обычно относятся к одному экзогамному роду, только в очень больших равнинных деревнях могут быть представлены несколько родов. Таким образом, население деревни состоит из одной или нескольких групп, внутри которых оно связано кровным родством. Владение землей у них первоначально было совместным. Каждой семье выделялся определенный участок; по мере изменения состава семьи происходило перераспределение земли. Ныне землевладение все более принимает индивидуальный характер. Административную власть в деревне осуществляет староста. Помимо этого имеется общинный совет, разрешающий споры между членами общины и наказывающий за проступки. Большие деревни в сравнительно ровной местности, где достаточно пригодной для обработки земли, приближаются по своему типу к описанным выше. Население здесь занимается пашенным земледелием и ремеслами. В горных и лесных деревушках экономической основой жизни до недавнего времени оставались охота, собирание дикорастущих плодов и кореньев и подсечное земледелие, продолжавшее существовать в глухих уголках, несмотря на запрет, наложенный на него около ста лет назад английской колониальной администрацией (об основных его типах см. примечание к сказке № 10). Эти деревни невелики, и уровень жизни в них значительно ниже, чем на равнине. Типичный пример такого существования дают байги.
Житейские потребности их в высшей степени скромны — они обходятся минимумом одежды, посуды и инструментов: набедренная повязка, грубошерстное одеяло, оно же «плащ» и «пальто», циновка, два-три горшка для воды и приготовления пищи (остальная посуда делается из листьев), топор, мотыга и серп, лук со стрелами — это чуть ли не все. Живут они в примитивных хижинах с плетеными стенами и тростниковой крышей, мало отличающихся от шалаша. В прошлом, когда земледелие у них носило исключительно подсечный характер, они не держали никакого скота, кроме кур и свиней. Когда под давлением властей им пришлось переходить к пашенному земледелию, они начали заводить волов и коров, но пашут землю они весьма примитивно, сея главным образом просо, и не питают к этому занятию большой склонности, предпочитая ему свои традиционные промыслы. В пору муссона, когда в разлившихся реках появляется много различной рыбы, они бросают поля и идут на рыбную ловлю. Как только начинают созревать лесные плоды, все отправляются их собирать. Кроме того, круглый год, невзирая на все запреты, они промышляют охотой. Будучи искусными стрелками из лука, они вместе с тем не брезгуют никакими ловушками и западнями, и изобретательность их в этом плане не знает предела. При всем том пропитание у них весьма скудное, и они постоянно живут на грани голода. По-видимому благодаря своей близости к природе, байги пользуются у окрестного населения репутацией колдунов и прорицателей. Им принадлежит роль официальных жрецов в гондских деревнях.
Религиозные верования дравидских народов и санталов представляют собою любопытную смесь анимистических культов с элементами индуизма, как весьма ранними, так и заимствованными в сравнительно недавнее время. Различаясь в деталях у разных народностей и племен, эти верования в структуре своей достаточно сходны, чтобы можно было говорить о них в целом.
Большинство народностей признает существование Всевышнего — вездесущего и всеведущего, творца и владыки мира и всего в нем живущего. Он устанавливает моральные нормы и карает за их нарушение. В конечном счете он же владеет жизнью и смертью. Гонды и их соседи именуют его Бхагаван, как индуисты, или Махапуруб. У санталов, неся те же атрибуты и функции, он именуется Тхакур, или Чандо, и в последнем случае часто отождествляется с солнцем. Интересно, что ни гонды, ни санталы, несмотря на верховную роль этого божества, не совершают ему поклонений; у них нет ни каких-либо посвященных ему ритуалов, ни его изображений или символов; ему не приносятся жертвы.
Следом за Бхагаваном идет другое высшее божество, которого гонды зовут Бара-дэо, а байги — Тхакур-дэо. Его символизирует каменная плита, устанавливаемая вертикально на краю деревни. У этой плиты совершаются поклонения и жертвы перед началом посева и в некоторых других важных случаях жизни. Названное божество нередко идентифицируется со Всевышним. По-видимому, оно служило верховным божеством племени до того, как индуистский Бхагаван стал своего рода главой пантеона. Подобная двойственность прослеживается и в трактовке Чандо у санталов.
В обыденной жизни главная роль принадлежит племенным, деревенским и домашним богам. Им служат, обтирая и обмывая символизирующие их каменные столбы или примитивные фигурки из дерева и металла. Им приносят жертвы зерном, для них производят заклание домашних животных и птицы. В одном ряду с домашними богами стоят духи предков, к которым постоянно обращаются за помощью и защитой. Кроме того, к ним примыкают и некоторые индуистские божества, среди которых выделяются Махадео (Шива) и Парвати.
Помимо божеств носителями сверхъестественной силы, способными творить больше зла, чем добра, являются, по представлениям санталов и гондов, всевозможные духи и бесы. Это в первую очередь души люден, умерших без положенных очистительных обрядов. Они населяют леса и воды и служат постоянной угрозой для неосторожного путника. Одухотворяются также многие животные, растения и силы природы, особенно те из них, с которыми тесно связаны быт и хозяйство.
Эти поверья, равно как и реальные условия жизни народа, нашли яркое отражение в гондском и сантальском фольклоре. Хотя, как справедливо отмечает собиратель гондских сказок известный этнограф-индианист В. Элвин, индийский фольклор не содержит тех «автобиографий» племен и народностей, какие находит Ф. Боас в фольклоре американских индейцев, эти сказки служат богатым источником сведений о поверьях и быге их создателей и рассказчиков. Это относится в первую очередь к сказкам бытового характера и сказкам о животных. Но даже классические волшебные сказки, в которых рассказчик стремится увести слушателя вслед за героем как можно дальше от рутины обыденной жизни, содержат немало штрихов, дополняющих образ народа. Своей этнографической достоверностью особенно отличаются собранные П. О. Боддингом сантальские сказки. В большинстве из них одна за другой проходят картины повседневной жизни сантальской деревни: расчистка поля, посев, охрана и сбор урожая; прием гостей, заключение дружбы, сватовство и женитьба; семейные ссоры и примирения; суд, творимый общинным советом, и многое другое. Порой подобные описания могут показаться растянутыми, динамизм центрального действия сказки снижается, но описываемые детали и ситуации столь характерны и красочны, столь ярко рисуют самобытную жизнь далекого от нас народа, что это с лихвой вознаграждает любознательного читателя. В этом смысле сказки П. О. Боддинга могут быть названы энциклопедией сантальского быта.
Одно, в чем и Боддинг и Элвин находят решительное несоответствие сказки действительности, это широко распространенный отход от принятых в соответствующем обществе этических норм. Убийство, надувательство, похоть, столь часто — и порой с нескрываемым удовольствием — описываемые в сказках, вовсе не признаются нормальным явлением. Напротив, в жизни они осуждаются и наказуются.
* * *
Предлагаемые вниманию читателей сказки почерпнуты из двух коллекций, которые с полным правом должны быть признаны лучшими из существующих собраний фольклора соответствующих народностей. Сантальские — собраны в конце прошлого и начале нынешнего века миссионером П. О. Боддингом, проведшим среди санталов значительную часть своей жизни и бывшим в свое время крупнейшим знатоком этого народа. Подавляющее большинство сказок, представленных в его собрании (Р. О. Bodding, Santal Folk Tales, vol. I—III, Oslo, 1925—1929), записано его постоянным спутником и помощником Саграмом Мурму — одним из первых грамотных санталов. Ему, в частности, принадлежит двадцать восемь из тридцати пяти сантальских сказок, отобранных для настоящего издания. Четыре сказки рассказаны Бхуджу Мурму, остальные три—разными другими лицами. В издании Боддинга текст сказок, записанных в оригинале приспособленной к сантальскому языку латиницей, сопровождается английским переводом и обстоятельным комментарием, который был в немалой мере использован при составлении примечаний к русскому переводу.
Сказки гопдов и родственных им народностей были собраны В. Элвином в тридцатых годах нынешнего столетия в восточных районах современного штата Мадхья Прадеш, носящих местное наименование Махакошал, главным образом в Мандле и Бастаре. В его издании (V. Еlwin, Folk-tales of Mahakoshal, Bombay-Madras, 1944) сказки даны в переводе на, английский язык. В этих переводах, сделанных с оригиналов на чхат-тисгархи, а частично с гонди через параллельное толкование, обычно самим же рассказчиком, на чхаттисгархи или халби (это относится к сказкам, собранным в Бастаре), исследователь стремился насколько возможно сохранить своеобразие подлинника. Исходя из стилистического сопоставления его переводов с немногими доступными нам в оригинале образцами гондских сказок, можно сказать, что поставленную задачу решил он с успехом. Имен рассказчиков В. Элвин не называет, но всегда точно указывает их принадлежность к определенной этнической или социальной группе и место, где записана сказка. В число отобранных из его сборника для русского перевода вошли двадцать три собственно гондские сказки (в том числе семь пардханских и четыре сказки агариев), восемнадцать сказок муриев и три мариев. Девять сказок принадлежат байгам, еще девять — другим небольшим родственным гондам народностям из числа упоминавшихся выше.
Таким образом, предлагаемый читателю сборник содержит немногим более трети сказок из издания Боддинга и примерно такую же часть материала сборника Элвина. Он включает количественно небольшую, но достаточно репрезентативную долю центральноиндийского фольклора, поскольку отбирались для него в первую очередь те сказки, которые наиболее отчетливо отражают специфику духовной и материальной жизни санталов и гондов. Ввиду того что сборник предназначается для широкого круга читателей и охватывает уже известный специалистам по оригинальным публикациям и достаточно учтенный в фольклористике материал, составитель за редкими исключениями не вводил в него параллельных вариантов, а также тех сказок, которые в какой-либо из своих индийских разновидностей уже представлены на русском языке в ранее опубликованных переводах. По этой же причине, а также учитывая значительную типологическую близость сказок, принадлежащих перечисленным выше народностям Центральной Индии, они даются здесь единым корпусом, без членения по этническим группам носителей. Располагая их в сборнике, составитель в значительной мере следовал классификации сюжетов по Аарне. Данные об этнической принадлежности рассказчика и местности, где записана сказка, содержатся в примечаниях.
Нельзя сказать, чтобы центральноиндийские сказки резко противостояли сказкам из других частей Индии. В большинстве из них мы сталкиваемся с теми же сюжетами и мотивами, которые свойственны индийскому фольклору в целом. Вполне очевидно, что санталам и гондам издавна было знакомо устное творчество их индоарийских соседей, с которыми они живут в длительном и достаточно тесном контакте. Более того, некоторые из рассказываемых ими сказок имеют литературные параллели, зафиксированные в санскритских сказочных сборниках около тысячи лет тому назад. Примером тому служат две помещенные здесь сказки о незадачливом мечтателе, ищущем, как бы получше употребить еще не заработанные деньги (№№ 90 и 91), прототип сюжета которых нашел отражение еще в «Панчатантре» и «Катхасаритсагаре». Это, однако, достаточно редкое исключение. В основной своей массе индийское народное устное творчество весьма далеко отстоит от «классической» сказочной литературы, несмотря на общность целого ряда мотивов. Особенно это относится к фольклору малых неарийских народностей. И все же специфика последнего заключается не столько в своеобразии сюжетов и мотивов, сколько в характере их подачи — в том материальном и духовном фоне, котором они воплощаются и развертываются. Весьма показательно, что подлинной оригинальностью здесь обладают как раз наименее характерные, наименее «сказочные» (в узком смысле этого слова) жанры сказки — те, что ближе всего стоят, с одной стороны, к легенде, преданию или балладе, а с другой — к бытовой новелле, житейскому анекдоту. Образцами первых могут служить гондские сказания о Лохабандхе и Сингхи-сурве (№№ 46 и 47). Круг вторых значительно шире. Сюда относится, в частности, целый ряд сантальских сказок, опирающихся на реальные житейские ситуации, например сказки о пьяном хвастуне (№ 83), о продажных свидетелях (№ 84), о сироте, которого обобрала родня (№ 85), о недогадливом зяте (№ 86), об украденной козе (№ 87) и др. К ним примыкают и сказки муриев, в первую очередь те, которые посвящены выбору невесты (№№ 53, 54 и др.).
Среди более «типических» сказок выделяются определенным своеобразием цикл, связанный с поползновением брата жениться на родной сестре (№№ 56—58; ср. № 43), и цикл, касающийся браков с животными (No.No 29—36).
В числе сказок о животных центральное место принадлежит двум циклам — шакальему и тигриному. Не будучи особо специфичными — сказки этого типа широко распространены по всей Индии, — они содержат немало оригинальных деталей и поворотов сюжета. В то же время эти сказки показывают, насколько большое место в сознании людей, чья жизнь тесно связана с лесом, занимают два зверя: шакал, выступающий здесь в двух традиционно-индийских своих ипостасях — мудрый благожелательный советчик сочетается в нем с бессовестнейшим пройдохой, — и жестокий убийца-тигр, постоянно угрожающий человеческой жизни.
Наконец, своей формой привлекают внимание те гондские сказки, в которых большое место принадлежит песенному элементу. Крайне незамысловатые по сюжету, они покоряют таящейся в них поэтичностью. Таковы, например, сказка о девушке Дасмотин, похищенной змеем (№ 35), сказка о съеденной рыбе-девушке, завершающаяся весьма жестокой развязкой (№ 29), и особенно сказка о безответной невестке (№ 45).
Здесь мы ограничились самыми беглыми замечаниями о характере цеитральноиндийского фольклора. Тем же, кто захочет ознакомиться с ним более глубоко, можно порекомендовать обратиться к упоминавшейся выше книге В. Элвина. Читатель найдет в ней и специальные характеристики основных тягов сказок, и очерк истории изучения индийского фольклора, и исчерпывающую библиографию вопроса.
|
ПОИСК:
|
© Злыгостев А. С., дизайн, подборка материалов, оцифровка, статьи, разработка ПО 2001–2019
При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
http://skazka.mifolog.ru/ 'Сказки народов мира'
При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
http://skazka.mifolog.ru/ 'Сказки народов мира'